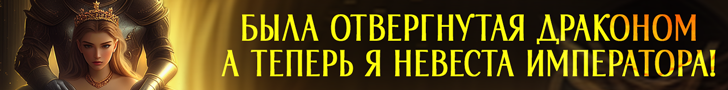Это я!
Это я!
Волк прилег отдохнуть после обеда у озерка и задремал. Вдруг что-то мокрое хлестко свалилось ему на морду и заплясало на ней. Оно мокрыми липкими лапами залепляло ему глаза, тянулось к ушам, прыгало и танцевало, при этом издавало дикий лягушиный вопль: Этояэтояэтоя!..
Волк смахнул мокрое наваждение, хрипло взлаял и помчался огромными скачками. Он мчался, не разбирая дороги. Наверное, с самого рождения не испытывал он подобного ужаса. Волк так и не понял, привиделось ему все это во сне или было наяву.
Пробежав с три версты, он упал в кустах. Мучили рези в животе. Подошел и улегся рядом медведь. Оба молчали, говорить не хотелось. Внезапно с болота донесся знакомый вопль: «Это я, это я, это я, я, я…».
Волк повернулся к медведю и спросил:
— Что это?
— Не знаю, — ответил медведь толстым голосом. — Говорят, одна лягушка путешествует с птичьей стаей, перелетает с места на место.
— Михалыч, что ты говоришь такое, ты же прекрасно знаешь, что лягушки не умеют летать. У них нет этих… крыльев!
— Эта — умеет, — сказал медведь и замолчал.
Жужжала мошкара. Пасмурное небо готовилось пролиться дождем.
— Михалыч, — вновь начал волк. — И как, далеко они путешествуют?
Он и сам не знал точно, зачем завел этот разговор.
— Птицы, они, известно, далеко летают, — задумчиво обронил медведь. Помолчав, продолжил:
— И у турка были, и у шведа, — он загибал когтистые пальцы. — И даже в этом… в Ехипте…
— Ох, Михалыч, я и слов-то таких не знаю, — дернул ушами волк.
Молчание засасывало, будто топь. В теплом воздухе застыли недвижно черные шатры елей. Волк сказал с непонятным сожалением:
— А я дальше хутора Орехов нигде и не был…
И снова звенели только комары в душной западине.
— А я вот слышала, что неделю назад бухнулась в наше болото незнакомая лягушка. Вся такая из себя — везде, дескать, была, все, мол, видела. Да только и квакнуть не успела — сожрал ее аист!
— Чур, меня, чур! — замахал лапами Михалыч. — Сколько раз говорил — не подкрадывайся, Лизавета! Я больно к старости нервенный стал!..
Он возмущенно поскреб седой загривок. И спросил уже спокойнее:
— Кто ж Петровичу на морду сиганул? Кто на болоте орет?
— Дух ее, — без запинки отвечала Лизавета. — Это все дух чудит.
— Ох, и напугали кого-то болотные сплетницы, — волк обнажил в усмешке загнутые назад клыки.
Лизавета мгновенно прищурилась:
— А ты, Петрович, волк не из пужливых, что ж три версты чесал, как угорелый? — спросила она.
Волк в смущении стиснул нос лапами. А Лизавета меж тем продолжала:
— Точно вам говорю: нежить на нашем болоте завелась, свету теперь не взвидим, ой, как нам жить-то теперь, с нежитью-то-о-о…
— Отпрыгни от меня немедленно! — закрутил башкой медведь.
Лизавета отпрыгнула.
— Слушай, Лизка. Ты девка бойкая, подберись, — незаметно, как ты умеешь, — и послушай, о чем они там, на болоте трындят!
— А ну как она вправду околела? Я покойников боюсь! — привычно заупрямилась Лизавета, но лапы уже понесли ее в сторону болотины. Михалыч все рассчитал правильно — любопытство взяло верх над осторожностью.
Вновь покой затопил место лежки. Парило неимоверно. Волк вывалил длинный розовый язык, бока его часто ходили.
— Ты, Петрович, волк серьезный, вот скажи мне, — медведь начал медленно, как бы даже неуверенно. — Для чего, к примеру, зверь живет на свете?
— А?.. — спросил волк, будто проснувшись.
— Вот и я говорю: рождаемся, открываем глаза, учимся ловить еду… И — завертелось. Мы охотимся, на нас охотятся. Приглянулась какая — все быстро, с лету, — не до любви, чай! Детей и приголубить некогда. Только пасти разевали, есть просили — глядь, уж тебя сожрать готовы. Делай лапы! Лови еду, хоронись от человеков, набивай брюхо. Вот и бегаем по кругу, как чумной волк… э… прости, Петрович. А хоть кто-нибудь меня спросил: а чего бы ты, Михалыч, к примеру, от жизни хотел?
Голос его звучал странно — глухо так, размеренно, как из глубокой норы. И лежащему в оцепенении волку вержилось, будто не Михалыч это говорит, а кто-то другой. Очень старый и спокойный — вон, как та сосна! — и мудрый. Оно конечно — Михалыч умен, но этот… мурашки под шкурой от его голоса.
— А сколько раз по весне я просыпался и думал, что теперь-то все будет по-моему! — закончил медведь. Его маленькие тусклые глазки смотрели печально.
Волк не нашелся, что ответить.
— Лягуха улетает! Лягуха улетает! — протявкал знакомый подхибетный голосок.
Медведь уже привычно подпрыгнул, ляснувшись на брюхо, и, втихую же, шепотом, выругался очень нехорошими медвежьими словами.
— Только и разговоров — об этой лягве! Утки-де вот-вот прилетят, и она отправится в этот… Ехипет! — трещала лисичка. — Ну и дурищи! Ведь никакого Ехипта нет — это миф о загробной жизни-после-того-как-околеешь!
— Нет жизни после околевания! Нет! околеешь — и человеки снимут с тебя шкуру! — рассвирепел Михалыч. Он всегда свирепел от бессмыслицы.
— Как хотите! — покрутила хвостом Лизавета. — А я от своих слов…
Резкий свист крыльев заставил ее упасть в траву мордой вниз. Совсем низко над западиной, где залегло зверье, прошли на бреющем две крупные птицы, а между ними… плясало и дрыгалось нечто. Оно напоследок мазнуло холоднющими лапами по морде волка, и пробулькало: «Это я!», но невнятно, будто имело во рту кляп.
— Упс… — пробасил медведь, отнимая лапы от морды.
***
Волк трусил неспешно по сумеркам. Он не торопился домой. Несколько раз прошелся, пометил свою тропу и так, и эдак…
Втиснулся, наконец, в логово. Жена уже спала, но чутко, сразу же проснулась, подняла морду.
— Где тебя носило? — спросила она. — Опять на болоте с Михалычем засиделся?
— С ним.
Волк помолчал. Поискал блох. Нашел, разумеется. Затем спросил:
— Слышь, Варвара, а зачем зверь живет на свете?
Жена заинтересовано повернула голову.