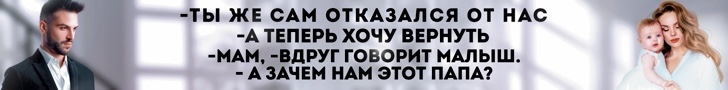Филос. Эрос. Агапэ
Во веки веков
Мы крали сирень у ветеранов сцены. Точнее, у их Дома. Вокруг ветхих актеров и актрис, заслуженных и не очень мастеров и просто «артистов искусства» сирень цвела особенно разнузданно и пахла так пряно, что просто напрашивалась на разлом. Мы не могли устоять.
Мы проникли в склеп Мельпомены уверенно, через главные ворота: сосредоточенные лица, прогулочный шаг — свободный шаг законопослушных людей. Вылитые шпионы советского кинематографа времен позднего застоя.
— Твоя бабушка вполне могла быть актрисой. Или моя. Я же не виноват, что она стала бухгалтером! Должен ведь я навещать бабулю, я, ее единственный внук?! Пусть у меня нет кумачовой шапки, так ведь конец мая на дворе! А я несу ей корзинку пирожков и горшочек масла.
Герман прираскрыл сумку, во тьме которой в теплом болотистом стекле плескалось небрежно закрытое «Саперави».
— Хочу есть! Все-таки надо было купить пирожков. Хотя бы для бабушки. Знаешь, Гарик, внучка из тебя — ужасная.
— Это потому что я — внук! Внук — это звучит гордо. И не надо дополнительных обстоятельств в виде мучного и жирного! Моя бабушка — царственная старуха, она следит за фигурой! Никто не ждет от внука, чтобы он являлся с выпечкой. Любящий внук приходит с цветами и коньяком в дедовой трофейной фляжке. Вот и она! Извольте убедиться!
Крылья бежевого плаща распахнулись, как будто призывая меня в спокойные волны увитого затейливыми переплетениями свитера.
Я зачарованно смотрела. Невыносимо красивый Герман — северный вариант врубелевского демона — прозрачные глаза, пепельные волосы и скульптурный торс. Умный, ироничный, сильный, отзывчивый, щедрый, образованный. Песочный монохром одежды: не мужчина, картинка с выставки! Как звали вашего пони?
— Ну хорошо, ты образцовый внук примадонны на пенсии. А я кто?
— Ты — моя невеста. Лизонька или Любонька. Начинающая артистка из Саратова. Собираешься поступать в театральный институт. Прознала про бабулю и решила втереться к ней в доверие: присвоить, так сказать, секреты мастерства, нажитые долгим упорным трудом. А я, болван влюбленный, оглушен твоей красотой и очарован провинциальной практичностью.
Герман обернул меня сначала одной полой плаща, потом поверх нее — другой. Я дурела от счастья в этом коконе принцессы. Он отметил губами центр моего лба, и я услышала солнечным сплетением предосудительный комплимент моей женскости. Весенние воды размывали мои берега, а хрустальная корона остро поблескивала на макушке.
— Не увлекайся! Нас ждет подлог, грабеж и прочее мародерство. Гарик, пусти! Сирень сама себя не наломает!
— Ты ужасно вероломная девушка! Заманила меня в кусты, а сама… Между прочим, мы могли бы начать свой преступный путь с чего-нибудь аморального. Когда ты рядом, мне трудно сосредоточиться на воровстве!
— Ничего! Я верю — ты сможешь! Видишь те верхние ветки у забора? Мне кажется, что они должны немедленно оказаться в моих руках!
Он взлетел на еле живую крышу пожилого сарая и начал ломать изнемогающую от цветов крону, каждым движением хвастаясь обезьяньей ловкостью и силой. Я дышала синкопами: очарованная, возбужденная акробатическими этюдами, и мой восторг заставлял его выбирать самые труднодоступные ветки.
Мы познакомились ровно неделю назад, и с тех пор расстались только однажды — сменить увядшую одежду. Герман учился на одном курсе с моим приятелем, философом, который, встретив меня, бесцельно бродившую по университетским закоулкам, прихватил с собой на очередное гульбище. Самая заурядная студенческая компания: гуманитарные сопли и дешевый алкоголь.
— Душечка, когда читаешь переводы Антонена Арто, становится больно за отечественную филологию! Понимаете, театр жестокости как отдельное направление искусства не может быть переводим теми же словами, что и какой-нибудь Жан Жене! Хотите, я покажу вам свои заметки по поводу «Кровяного фонтана»?
(«А что это у вас, великолепная Солоха? Будто не видите, Осип Никифорович! Шея, а на шее — монисто».)
Скучно! Докучливые филологи, тощие полупрозрачные недомерки с высокими голосами; философы с манерами мифических сапожников; историки, бородатые, как шутки. Пустая трата времени для девушки призывного возраста и внешности. Я уже собралась возвращаться под родительское крыло, когда он пришел. Совершенный мужчина в черном глухом свитере, черных джинсах и серебряном витом перстне на среднем пальце левой руки. Он был пьян, насмешлив и безупречно подстрижен. У него были длинные пальцы и длинные уши: в мочку левого была вправлена нефритовая точка, а из правого свешивалась массивная серьга из того же нефрита в форме капли. Я моментально влюбилась.
Не я одна. Три куры со славянского отделения, которые представляли слабый пол на мероприятии, немедленно сделали стойку: стали охорашиваться, лучезарно улыбаться сквозь щебет и разбрасываться многообещающими взглядами. Детская, неэффективная тактика. Я только один раз посмотрела на него: прямо в глаза, долго и спокойно, без глупых улыбочек и подмигиваний, а затем немедленно вернулась к дискуссии об Андре Жиде, где можно было ловко лавировать между двумя искусствоведами, попеременно демонстрируя то широту кругозора, то ироничность ума. Получаса не прошло, как он оказался сидящим рядом со мной, а его колено, локоть, плечо время от времени касались меня. Конечно, совершенно случайно! Герман смеялся моим шуткам, разделял взгляды и пересел на подлокотник моего кресла.
Среди ночи мы ушли к цыганам. Недалеко от университетского общежития на пьяном углу толстая, черная с золотом тетка продавала алкоголь круглосуточно и круглогодично. В обычной жизни весь маршрут туда и обратно занимал минут пятнадцать. Мы вернулись часа через два, держась за руки, под ненавидящее шипение исстрадавшихся товарищей, и уже никогда не расплетали рук.
Утром, после бала, двоечники и лентяи остались спать, а особо сознательные поплелись на лекции. Спать мы, естественно, не могли, оставалось учиться. У нас были разные факультеты, но такой пустяк не мог нас разлучить.
Сначала мы посетили пару по истории философии, потом по зарубежной литературе, потом логику и экономику. В перерыве позавтракали «Алазанской долиной», разделив ее с двумя-тремя общими друзьями. У нас сразу появились общие друзья, и так же сразу общественное мнение безоговорочно признало нас парой.
Наигравшись в студентов, мы отправились по реками и каналам, набережным и мостам, садам и паркам. В петербургском мае любой городской изгиб благоприятствует влюбленным. На Моховой нам повстречались знакомые скульпторы, которые зазвали выпивать в чью-то отцовскую мастерскую. Нас, нежных, расслабленных, несло течение, теплое и бережное, как Гольфстрим, к берегам, где жили самые гостеприимные туземцы.
Мы сидели, обнявшись, на шкурах убитых зверей, придерживая пакет инквизиторского вина «Крузарес», литра которого достаточно, чтобы пятеро здоровых, опытных художников упали замертво.
— По-моему, Новая Академия — просто бардак. Причем я имею в виду не беспорядок. Сначала там предметом искусства было то, что новых, мать, академиков повыгоняли за неуспеваемость из художественных школ. Потом — тяга к публичной содомии. И никогда, мать, — живопись!
— Зато опять какие-то немецкие культуристы подкупили у них картинок на много тысяч фашистских марок. Признай, Васечка, ты просто завидуешь!
Я уснула в разгаре культурной беседы. Незаметно для себя. Говорила, смеялась, прихлебывала огненный, венозного цвета напиток, потом на минуточку прикрыла глаза — просто чтобы меньше царапал песок вторых суток бодрствования — и выключилась. Мгновенно.
Проснулась уже непонятно каким утром. Ночь в преддверии лета занимает такую незначительную должность, что ее присутствие почти незаметно. Солнце, если оно, конечно, есть, светит с пяти до двадцати трех включительно, поэтому не дает никакого представления о времени. В общем, было светло.
Я проснулась завернутой в Германову куртку, поверх которой меня обнимали Германовы руки, ноги, торс. Даже его голова участвовала в этом объятии: волосы создавали кружевную полутень, защищавшую мой взгляд от прямых солнечных лучей. Второе утро любви было даже лучше первого. Сердечная близость, не испытанная еще на прочность близостью соития, казалась такой полной, что хотелось немедленно умереть от счастья.
Мы выпили чаю и, не потревожив хозяев, поехали в университет. На этот раз поучиться не удалось. Голод загнал нас в буфет, где дружественный внук известного академика собирал компанию для поездки в Комарово на дедушкину дачу.
Финский залив не отпускал целых три дня. Между корней шелушащихся сосен вылупились нежнейшие голубенькие цветки, и я сплела из них пару романтических веночков, в которых мы прогуливались по взморью. Еще мы загорали на безлюдном пляже, пили противный портвейн со вкусом люголя и жарили хлеб на шашлычных углях, оставшихся от родительских выходных. В последнюю из комаровских ночей на академических простынях мы преодолели последний рубеж близости. Странно, что этого не случилось раньше: видимо, беспорядочное пьянство, разговоры о смысле жизни и веселые, как дельфины, товарищи мешали отдаться друг другу целиком. Тем утром Герман впервые сказал мне «ты».
— Ты ужасная соня! Я уже минут пять как проснулся и жду тебя. Но зато ужасно красивая соня. И вкусно пахнешь.
— Не смей меня нюхать! Я пять дней не была дома и пахну, как халат бухарского торговца рыбой.
— Не спорь со мной, женщина! А то я возьму тебя немедленно, и никто не узнает, что я придумал в те пять минут, когда смотрел на тебя спящую.
— Рассказывай. Только быстро!
— Наверное, это забавно, но я бы хотел на тебе жениться. В смысле, не как честный человек. Я — нечестный человек. Нечестный человек, который хочет, чтобы ты стала его женой. Как-то жалко звучит, неубедительно… В свое оправдание могу сказать, что раньше у меня таких дурацких идей не возникало. Это меня извиняет?
Я боялась пошевелиться. Конечно, наверняка померещилось — слуховые галлюцинации.
— Хочу уточнить, просто на всякий случай: ты делаешь мне предложение?
— Честно говоря, да.
— Да.
— Что «да»?
— Сокращаю обязательную программу. Полный текст такой: ты: «Единственная и любимая, выходи за меня замуж!», я: «Это так неожиданно, я должна подумать», ты: «Я не вынесу твоего отказа. Моя жизнь будет кончена! Скажи — «да», я: «Да».
— Теперь я хочу уточнить: ты согласна?
— Конечно. Представь, если у нас случайно когда-нибудь появятся дети, они, по крайней мере, будут красивыми.
Мы дважды поздравили друг друга. Первый раз — обжигающе скоро, потом, почти без перерыва — нежно и обстоятельно. После Герман сделался печален, как всякий зверь после соития. Мне показалось, что он уже жалеет о своем поспешном предложении, и тоже стала печальна.
Мы печально дошли до печального перрона, и печальная электричка печально повезла нас в петербургскую мглу.
— Кстати, у тебя паспорт с собой?
— Нет, а что?
— Преступная беспечность! Как такая разумная барышня может полагать, что у нас примут заявление без паспорта?! В ЗАГСе никому не верят на слово, так и знай!
— Тогда я съезжу за ним домой. Заодно переоденусь и приму душ. Настоящая невеста должна быть чистой.
Конечно, я перемерила все платья, сто раз меняла прическу и состарилась в поисках нужных туфель. Прошла целая вечность, прежде чем мы встретились снова, но, тем не менее, нам удалось заполнить необходимые анкеты в барочном дворце на Английской набережной.
Затем Герман торжественно повез меня в гости к другу детства, где ради такого случая нас ждали коллекционный коньяк и вареная картошка.
Все в прошлом.
Теперь мы крадем сирень у ветеранов сцены.
Пушистые разлапистые ветки уже не помещались в руках. Я отдала ему часть добычи.
— Поехали ко мне. В конце концов, должен же я представить родителям свою невесту.
— Ладно. Но не говори, что я — дебютантка Лизонька. Лучше скажи им, что меня зовут Джейн, и мы не встречались раньше, потому что до поступления в университет я была юнгой на пиратском судне. Думаешь, я понравлюсь твоей маме?
— Уверен. Но это вообще не важно.
Васильевский остров приветствовал внезапным ледяным ветром с дождем. Втянул сквозь коктейльную трубочку проходного двора в подъезд, на лестницу, в квартиру за черной дерматиновой дверью.
Мы пили чай с вареньем из костлявых вишен в окружении ведер с сиренью, пыльных фарфоровых человечков, столовых приборов липкого серебра, газет, книг, бумаг и бумажек, салфеток, вышитых вековой гладью. Два линючих кота неистово урчали, распластавшись прямо на тапках, марая подол моего бежевого платья отвратительной серой шерстью. Ариадна Александровна накручивала на узкие пальцы девический завиток, высокохудожественно выбившийся из прически, и ворковала сквозь неразменную улыбку.
— Как мило, что вы женитесь в июле! Можно накрыть столы на даче. Столько цветов! Фрукты! И обойтись без занавески на голове. Просто венок из живых, например, ландышей.
— Мама, мне кажется, такие вещи должна решать невеста.
— Конечно! Но ландыши — это чудесно!
Я чувствовала аллергию на ландыши, котов и вишневое варенье.
— Миня, а ты случайно не показывал ту дивную японскую акварель с девушкой в свадебном кимоно, которую подарили папе в командировке? Дорогая, вы сразу влюбитесь в эту акварель! В нее нельзя не влюбиться! Правда, Минечка? Пусть у вас будет церемония в японском стиле.
Моя аллергия расползалась на Японию и акварель.
— Мама, ну пожалуйста! Давай уже поговорим о чем-нибудь другом!
— Хорошо! В конце концов, сегодня ваш день!
— Мама, мы женимся не сегодня!
— Я знаю. Просто в двадцать лет все дни — ваши. О другом, так о другом. Кто ваш любимый писатель, дорогая? Знаете, в «Спартаке» сейчас показывают всего Фасбиндера. Так вот, мне кажется, что он, по сути своей — не режиссер, а писатель. Это не фильмы, а движущиеся тексты: диалоги и описания. А вы знаете, что икона — это визуализированная молитва? Для неграмотного населения. Но это, конечно, общеизвестно. Кстати! Почему-то в фильмах Фасбиндера совсем нет свадеб. Хотя, конечно, я просмотрела ретроспективу не полностью. Зато у Анджея Вайды в «Идиоте» прелестно показано венчание. Такое совершенно «а-ля рюсс».
— Мама, по-моему, фильм Вайды называется «Настасья».
Я задыхалась. Отек Квинке. Ничего нельзя поделать. У меня оказалась тяжелейшая форма аллергии на всякого Спартака, от гладиатора до футбольной команды, на отечественный и зарубежный кинематограф, на свадьбу…
— Простите, но мне пора домой. Уже поздно. Родители будут волноваться.
— Подожди, я тебя провожу.
— Спасибо, Герман. Но правда поздно. Не успеешь на метро. К тому же мосты…
— Невозможно девушке возвращаться одной, особенно в такое время. Я вызову такси.
Желтая акула с черными шашечками на боку и одним изумрудным глазком нетерпеливо подрагивала у подъезда, пока мы прощались. Герман обнял меня, замер, положив подбородок на мою макушку.
— Они жили долго и счастливо… Целую неделю... И умерли в один день, — проговорил он куда-то в космос, медленно, членораздельно, как будто отсылал лингвистический образец посланцам инопланетных цивилизаций.
— Мы жили целую вечность. Можем позволить себе умереть в разные дни.
— Ты была лучшей невестой на свете. Я буду любить тебя до самой смерти.
— Прощай, Герман! Я буду любить тебя даже после смерти.
— Хорошо, только постарайся прожить еще хотя бы лет восемьдесят.
— Обещаю!
Город был пуст и сиренев. Уже через час, чудом избежав перекрестного допроса, заботливо оснащенная огромным яблоком и коробкой шоколадных конфет, я упала в чистую, хрустящую накрахмаленным бельем постель.
— Доченька, ты такая бледненькая! Нельзя столько готовиться! Подумаешь, сессия! Прекрасно сдашь и не просиживая с Верочкой сутками за учебником! Что вы там делали все это время?! Хоть что-нибудь ели? Наверняка только пили кофе ведрами. Все! Никаких книжек больше. Спи!
— Мамочка, ты у меня такая чудесная! Не буди меня завтра, ладно?
— Конечно, маленькая! Закрывай глазки.
Как спокойно! Как хорошо! Постельное белье еле слышно пахло сушенными цветами. Раньше я считала этот дух флоры Крыма мертвым и даже мещанским. Теперь в нем раскрывалась такая теплота и сладость, что я по-младенчески причмокнула и мгновенно уснула.