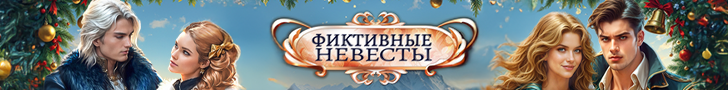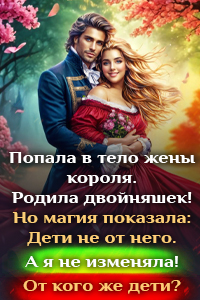Иркутская рапсодия ("Дознание капитана Сташевича -2")
Пролог "Белёк"
ИРКУТСКАЯ РАПСОДИЯ
(Дознание капитана Сташевича-2)
..Кто уврачует больного,
Если бальзам для него
Обратился в отраву.
Больного, который вкусил
Ненависть — в чаше любви?
Прежде презренный, ныне презревший,
Потаенно он истощает
Богатство своих достоинств
В себялюбивой тщете…
…Ты, умножающий радость
Каждому тысячекратно,
Охотников благослови,
Идущих по следу на зверя[1]…
Пролог
Белёк
Весна 1965-го года
Вадим Громов, облокотившись на ржаво-шершавые давно некрашеные леера, стоял на вахте у деревянных сходней, связывающих берег с бортом ветхого и безлюдного рыболовецкого траулера. Громов пошатался на главной палубе и, от нечего делать, по вертикальному трапу ловко взобрался на самую верхотуру, пеленгаторный мостик судна.
Отсюда хорошо была видна не только вся южная ремонтная база рыбфлота, но и противоположный, западный берег Кольского залива. На склонах сопок хмуро и сиротливо щетинилось убогое приполярное редколесье, да ещё несколько крохотных посёлков, в десяток-полтора домов оживляли этот скудно-унылый пейзаж.
Почти весь восточный берег залива занимал Мурманск. Самый северный в европейской части Союза незамерзающий порт. Над сотнями чёрных труб пришвартованных у причалов судов, над угнездившимися вдоль залива железно-журавлиными стаями портовых кранов, над дымящими тепловыми электростанциями и котельными возвышались такие же, как и на восточном берегу почти безлесные, каменистые сопки. Правда, в отличие от своих западных сестер, эти были покрыты серыми деревянными дорожками лестниц, приземистыми, мрачными и длинными жилыми бараками, да изредка, каменными грязно-жёлтыми и рыжевато-кирпичными зданиями.
Громову не мешал аскетизм окружающей его природы. Наоборот, мрачная суровость этих мест была ему по душе. Почему? Бог знает! Летом, светлыми ночами от спящего и безлюдного города веяло каким-то мистическим, потусторонним одиночеством. Осень же здесь выдавалась на славу, радовала праздничной пестротой жёлто-красной листвы, завораживала покрывающими сопки антрацитными, лиловыми и алыми коврами из грибов-ягод. А уж зимой, в полярную ночь, Север представал во всей своей величественной белоснежной, благородной красе. Словно мощный магнит притягивал взгляд чёрный бархат неба, слепящая россыпь ярких полярных созвездий. Сводили с ума мистически-надмирные, всех немыслимых цветов и форм сполохи полярного сияния. Звал и манил таящийся за всем этим бездонный космос Вселенной.
Зябко поёжившись, Вадим поправил съехавшую с рукава телогрейки красную повязку.
С весны 1964-го, со дня расставания с Северным Флотом прошёл почти год. Большинство сослуживцев давно разъехались по домам. Выглядели они тогда браво! Чёрные бушлаты, обвешанные неуставными, золотистыми и серебряными аксельбантами, новенькие, немыслимо расширяющиеся к низу раструбы расклешённых брюк, надраенные до слепящего сияния ременные якороносные пряжки-бляхи. Эти подвыпившие, весело-шальные от весенней, радостной, долгожданной свободы парни несколько светлых от незакатного полярного солнца недель заполняли вокзал и железнодорожные пироны Мурманска.
Флотские друзья-приятели Громова уже давно отпраздновали своё славное ДМБ и вскоре, без особого труда, нашли себе работу поблизости. Однако не таков был Вадим, высокий, светловолосый молодой человек двадцати трёх лет от роду. Всё дело в том, что поступив «как большинство», он изменил бы себе…
И то сказать… Характер! Да что там, норов! Гордый, независимый, даже заносчивый… Таков он был с малолетства. Не зря ещё в школе приклеилось к Вадиму не слишком лестное для советского мальчишки прозвище – Принц. Возможно, что не последнюю роль в этом сыграла внешность мальчика, его синие, словно безоблачные небеса глаза и правильные, можно сказать аристократичные черты. Вадим взрослел, и данное обстоятельство стало неизменно производить известное впечатление на женщин. В прочем, в отличие от хронически озабоченных сверстников, половой вопрос юношу никогда особо не занимал. Были, конечно, и у Громова любовные отношения с девушками, хотя чаще с более взрослыми женщинами. Однако долго это не продолжалось. Вадим, как с претензией на изысканный стиль выразилась одна из его близких знакомых, являл собой тип…«Рыцаря прохладного сердца».
Громов (и такое бывает) внешне очень походил на своего приёмного отца, Андрея Сташевича. Вспоминая фотографии Андрея Казимировича двадцатилетней давности, пасынок и сам не переставал удивляться своему нынешнему, странному и необъяснимому сходству с отчимом…
Лет до одиннадцати Вадик с папой Андреем были друзья, не разлей вода... Сташевич оказался для пасынка не просто отцом. Впрочем, куда там иным кровным отцам… Отчим дарил пасынку столько времени, искренней любви и родительского внимания, что Вадька просто купался во всём этом, словно в ласковом южном море. Мама Даша нарадоваться не могла, глядя на своих любимых мужчин. Но пришла пора, и Вадим вдруг начал выказывать необъяснимую отчуждённост. Андрей Казимирович с его вечной заботой и вниманием вдруг начал вызывать у пасынка глухую, граничащую с чёрной злобой враждебность. Умный Сташевич вовремя почувствовал эти перемены и, поразмыслив, счёл за благо просто оставить мальчишку в покое…
– Мам, а мой настоящий отец, каким он был? – спросил как-то мать одиннадцатилетний Вадик.
Дарья Михайловна взглянула на сына странно потемневшими глазами и тихо ответила:
– Ну, так я ведь тебе не раз уже рассказывала, Вадь. Твоего папу тоже звали Андреем. Хорошим он был, сильным, добрым. Мы были совсем ещё детьми, когда у нас первая любовь случилась. Я от Андрея, папы твоего, забеременела… Мы пожениться уже хотели, а тут Война. Отца твоего забрали на фронт, и больше от него вестей не было. А там и ты у меня родился…