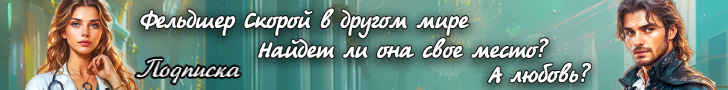Исповедь
Исповедь
Молодой ксендз был предан своей работе. Он истово верил в бога и досадовал, что не все современные священнослужители так же ревностны, как и он. Впрочем, и ему не хватало настоящего усердия. Больше всего в минуты общения с Господом он укорял себя за то, что не любит принимать исповедь.
Ксендз был уверен, что христианин должен исповедоваться только перед Всевышним, без посредников. Точно так же, как церковь в средние века отказалась от публичного покаяния, ей следовало бы прекратить современную практику исповеди перед священнослужителями, считал он. Но, чтя строгие догматы, полагал, что старшие наставники лучше него разбираются в вопросах веры и церковного устройства. Поэтому покорялся божьей воле и терпеливо выслушивал исповедывавшихся.
Работа эта, надо сказать, не только вступала в спор с его убеждениями, но и просто была малоприятной. За четыре года ксендз не услышал ничего стоящего. Обычно люди приходили с какими-то глупостями; иногда посвящали в свою жалкую низость, прикоснувшись к которой, хотелось немедленно принять душ. После такого трудно было сострадать...
Думая обо всем этом, ксендз выслушивал очередную зевотную историю, которую не оживляло даже то обстоятельство, что он не знал собеседника. За стенкой исповедальни сидела женщина из другого прихода, церковь ее была за городом. Она боялась исповедоваться в родной деревне, потому что местный ксендз знал всех своих прихожан как облупленных. А согрешила она именно против него.
Возвращалась на днях от кума. Дело было поздним вечером, полозья саней монотонно скрипели по рыхлому весеннему снегу. Разомлев после глинтвейна, стала клевать носом и отпустила поводья. Очнулась лишь после того, как вывалилась из круто свернувших саней. Ну, и обругала сгоряча кобылу, обозвав ее неуклюжей, как деревенский ксендз.
– Я же не со зла! – горячо оправдывалась женщина. – Ксендз, в общем-то, хороший человек. Но однажды уронил мне на ногу кадило...
Иные взрослые наивнее детей. Уверовав в свою возрастную мудрость, они творят потрясающие глупости, а потом боятся ответственности за них пуще малого ребенка.
Не скрывая все равно не видную женщине тоскливо скошенную улыбку, ксендз заверил ее, что грех не страшный и его легко замолить. Важно, что женщина раскаивается.
– Ой, я буду молиться! – энергично заверила та. – Я ему еще и пирог испеку обязательно!
Новость о том, что наказания не будет, переполняла счастьем душу великовозрастного дитя.
– Ой, спасибо! – звенел голос за стенкой. – Ой, спасибо! До чего ж мне было не по себе!..
Кажется, все. Приподнявшись, ксендз взялся за ручку дверцы. – Вы уверены? – спросил мужской голос из соседней кабинки.
Ксендз замер в полусогнутой позе, ему показалось, что он уже где-то слышал этот баритон.
– Уверен в чем? – спросил он, возвращаясь на скамью.
– В том, что кто-то на небесах дал вам право подслушивать людские судьбы.
От скуки не осталось и следа. Странный вопрос обещал интересного собеседника.
– Он обязал нас помогать согрешившим и наставлять их на путь истинный.
– И убийц?
– И их тоже, – последовал ответ после непродолжительной паузы, во время которой ксендз прокрутил в сознании давно мучившие его сомнения. – Страшен человек, совершивший страшный грех. Но еще страшнее тот, кому не помогли облегчить душу.
– Быть может, он не был бы так страшен, если бы не знал, что ему могут отпустить самые страшные грехи.
Голос. Как он знаком... Но какой-то деформированный. Ксендз принюхался. Из соседней кабинки доносился аромат хорошего коньяка.
– Вам трудно было набраться смелости, чтобы прийти сюда? – догадался он.
Тишина висела в коньячном аромате секунд десять.
– Вы исповедуете нехристей?
– Мы все равны перед Господом.
Из соседней кабинки донеслось бульканье хмельного смешка.
– Тогда почему мы не равны перед людьми, которых он создал по своему подобию?
– Мы перестали быть богоподобными, покинув Эдем, – растущий интерес к незнакомцу заставлял ксендза все сильнее теребить мочку правого уха. – Вы пережили какое-то потрясение?
– Я переживаю свою жизнь...
И вновь тишина. Которую прервало скрипучее вращение бутылочной пробки.
– Вы принесли в церковь алкоголь? – возмутился ксендз.
– Без него я вообще сюда не пришел бы. Так что ОН должен простить.
– Мне кажется, вы забываетесь, – не успокаивался ксендз.
– ОН готов простить исповедовавшегося перед вами растлителя детишек, но не в состоянии быть снисходительным по отношению к пьянчуге? – нотки горечи вибрировали в каждом слове незнакомца. – Неужто алкоголики не имеют права на исповедь?
– Он вряд ли сможет простить растлителя детей, который предается греху на исповеди, – ксендз старался говорить как можно спокойнее и увереннее.
– То есть, главное – не грешить в неподходящий момент?
– Грешить нельзя никогда. Но в церкви, да еще на исповеди любое прегрешение особенно низко. Уберите бутылку, или же я попрошу вас покинуть храм!
Незнакомец начал раздражать ксендза. Не тем, что он не разбирался в церковных тонкостях. Он задавал слишком сложные вопросы. Но именно это удерживало ксендза от того, чтобы сделать самое правильное в данной ситуации: выгнать нарушителя порядка из церкви, посоветовав вернуться в другой раз и трезвым. Или хотя бы без бутылки.
– С какой бедой вы пришли сюда? – спросил он, уже ничуть не сомневаясь, что предстоит выслушать неординарную историю.
– Сколько времени у меня?
– Столько, сколько понадобится.
Незнакомцу нелегко было начать.
– Курить у вас тоже не разрешается? – спросил он.
Ксендз не сумел определить, таится ли ирония в его голосе.
– Судя по всему, вы человек образованный. И даже если абсолютно неверующий, все равно должны знать элементарные нормы культуры. К чему этот нелепый вопрос?
– Я рос в обычной рабочей семье, – неожиданно начал незнакомец. – В небогатой, но и не слишком бедной. Родители любили меня и очень хотели обеспечить мое будущее. Вкалывали каждый на двух, иногда даже на трех работах, только бы у нас было сносное жилье, вдоволь нормальной еды на столе и... книги. Книг у нас было много. Особенно детских. Я упивался «Таинственным островом», «Машиной времени», «Хрониками Эмбера»... Жизнь казалась такой прекрасной и... огромной...