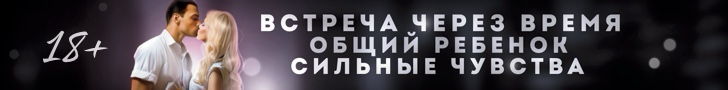Излом
Глава первая. Назначение
В начале октября 1938 года слушателя московской промышленной академии Николая Михайловича Петрова, тридцати трёх лет от роду, коммуниста с восьмилетним стажем, за спиной которого уже было директорство промышленных предприятий Москвы, внезапно вызвали в Центральный Комитет ВКП(б), не объяснив зачем. Он терялся в догадках. Ни одной утешительной мысли. В голову лезли только мрачные. А тут ещё товарищи по курсу нагнетали, провожая подозрительными, как ему уже казалось, взглядами. Ни один не подбодрил обычным: «Ни пуха, ни пера!». С каким бы облечением послал их к чёрту. Было не до шуток. Какие шутки, когда в голове мелькало, страшнее не придумаешь: «Потребуют сдать партийный билет. Но за что? В чём я провинился перед партией?».
В учёбе он преуспевал, к тому же совмещал её с партийной работой. Был секретарем парткома академии и тоже на хорошем счету. Сейчас уже учится на последнем курсе. Выбирал дипломную тему.
Лихорадочно перебирал в памяти всё последнее время, почему-то машинально начиная с декабря 37-го года и кончая сегодняшним днём. Ничего нерадивого не находил. Пытался успокоить себя, но не удавалось. А память вспарывала глубину прошлого года. Тогда случалось, что не таких коммунистов, как он, и не с его стажем и заслугами, но тоже внезапно отзывали, и след их исчезал. У него было лишь невысказанное недоумение. Да что из того… Думалось, что так и надо в той классовой борьбе, которая нарастала и которую они изучали в академии. Думалось-то, думалось, но тлел незаметно для него, молодого и успешного, в душе страх за себя. И не угасал. Выходит, с ним всё это время и жил, сам того не ведая. И он обречённо вздохнул.
В ЦК ему сказали без лишних объяснений:
- Товарищ Петров, по рекомендации Московского комитета партии вас переводят на работу в аппарат ЦК инструктором отдела руководящих партийных органов.
- В центральный комитет? - ошеломлённо протянул Николай Михайлович, не скрывая изумления. - Но я ещё и академию не закончил.
- Не боги горшки обжигают. Вам поручение – набрать 500 коммунистов из московских парткомов для руководящей работы на Дальнем Востоке. И не медля! Время не терпит.
- Выполню! - заверил он.
Произошедшее воспринималось им как долг коммуниста, который он отдаст партии, не жалея себя. А душевную панику теперь он переживал со стыдом, как слабость усомнившегося в партии. И, словно каясь, поделился с женой перед сном.
- Понимаешь, Наташа, о повышении я и не предполагал. Меня охватил какой-то жуткий страх. Что со мной будет? Я уже и не сомневался, что ничего хорошего меня не ждёт. Но главное, было такое чувство, что партия, ни с того, ни с сего, отторгла меня. Всё, во что я верил, полетело прахом. Жуткое было чувство. Откуда оно во мне? Всю свою сознательную жизнь верил в партию, в её дело, в её цель. Вдруг вера пошатнулась.
- А может быть, это кому-то нужно? - задавал я себе вопрос.
И не находил ответа. Состояние, я тебе скажу, не из приятных. В голову приходил Ежов. Но его-то нет. Троцкий… Я сам выступал против него и против тех, кто его поддерживал: Бухарина, Зиновьева. А сейчас сам попал в их число. А где же моя партия, мои товарищи, с которыми я шёл бок о бок?.. Они отвернулись? Сплочённость рухнула? Коммунисты всегда поддерживали друг друга. В ссылках, тюрьмах держались не хуже христиан. У тех была загробная вера, и она сплачивала. Получается, что наша земная – шаткая. Нас по одному уничтожат. И о товарище Сталине я подумал: разве он не видит? Так ведь и до него доберутся...
Такой сумбур пронёсся в голове, что ты не представляешь. Очнулся только тогда, когда услышал, что меня назначают инструктором руководящих кадров. Первым чувством было поднять руки и признаться: «Товарищи, я не тот, за кого вы меня принимаете…». Едва опомнился, а то бы сам себя оговорил.
Понимаешь, выговориться надо, чтобы не носить в себе. Иначе, какой же я коммунист после этого, нельзя носить в себе разную чушь. Так и до троцкистов недалеко. И будет в «Правде» на первой странице чёрным по белому жирный заголовок: «Отголосок 37-го года». Вот тебе как на исповеди…Ты для меня – секретарь нашей семейной ячейки.
- Какая ячейка?! У нас ещё и семьи нет. Будут дети, тогда я – секретарь. И спуску тебе не дам!
- Ты моя любовь первая и последняя. Я однолюб, как мой отец, как мой дед. А дальше я не знаю.
- Одну партию любишь…
- Потому, что она у меня, как и ты, одна.
- Ну, ей и исповедуйся.
- Нет! Тебе как на духу.
- И легче стало? - спросила Наташа, дотягиваясь до занавески одинокого окна, в которое заглядывала полным, внимательным взглядом коварная луна.
Жили они вдвоём, в отведённой им комнатке в общежитии академии. Детей у них ещё не было. По общему согласию собирались обзавестись ими после учёбы. Наталия было моложе его на восемь лет. Комсомолка, тоже училась, но в ИФЛИ, что громко означало - институт философии, литературы, истории.
- Легче, как после исповеди, так мама покойная говорила, исповедовавшись у попа.
- Это я-то поп!
- Что-то вроде. Ты же без пяти минут инженер человеческих душ, как я – пролетарский академик.
- Тогда слушай, что я тебе скажу. С этим все живут после ежовщины и не исповедуются. Страх у каждого в душе остался и у партийного, и у беспартийного. Рукавицы ежовы, как говорят в народе, не сняты с рук.
-Что ты говоришь? - повернулся он к ней лицом без улыбки.
-А ты послушай, - сказала она очень серьёзно. - У нас в институте сегодня прямо с лекции чёрный воронок забрал профессора по словесности. Не удивительно, что мы живём с этим страхом. И, наверное, ещё долго будем жить.
#10133 в Проза
#360 в Исторический роман
#6469 в Разное
#1017 в Приключенческий роман
Отредактировано: 01.04.2018