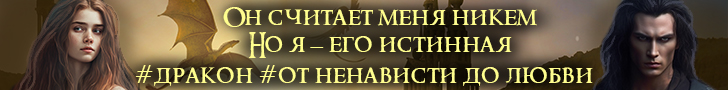Как белый теплоход от пристани
Я ехал им же...
Паники не было не потому, что все оказались примерно дисциплинированными и по-граждански сознательными. А потому, что ужас и шок, застывший, как холодец, в костном мозге, напрочь лишил способности хоть как-то проявлять инициативу. На мгновение, показавшееся нам длиннее атомной войны, реальность приобрела характер сонной нелепицы, и мы шли и, еле движимые от страха, ощупывали себя онемевшими руками...
О да, мы уцелели. Нам повезло – притом, что очутиться в этом поезде не сказать, чтоб удача. Среди кусков человеческого мяса, среди костей и крови, запёкшейся на стенах, на одеждах и наших обезумевших лицах, то облегчение, с которым мы убеждались в своей невредимости, кажется кощунственным теперь. Как могли мы в ту минуту думать только о себе? Да как мы?!.. Могли. В действительности единственное, что каждого из нас тогда волновало, это собственная шкура и собственные руки, которыми мы сможем обнять своих близких вечером того же дня. Мы остались живы, мы остались целы, но мы и не подозревали, что иной характер потерь, как процесс конфискации, уже вступил в силу с подписью детонатора на поясе смертника.
6-е февраля 2004-го года – день, когда оборвалась наша молодость; день, ставший мемориалом с фотографиями в памяти. Чёрно-белыми, точно из газеты. Такими теперь будут обложки наших семейных фотоальбомов, украшенные прежде яркими цветами...
Нас кое-как организовали и повели по тоннелю метро к выходу на платформу «Автозаводская», когда я краем глаза зацепил толстую тетрадь с пружинкой, застрявшую в кабелях и словно исторический факт возвысившуюся над домыслами и догадками архивариусов.
Она лежала одинокая, парадоксальная, вне всякого созвучия с происходящим – как будто мне её нарочно подбросили. Простенькая надпись: «Самородский Алексаша: то ли ещё было, есть и будет» – вот всё, что можно было разгадать на её обгоревшей корочке, пропитавшейся багрянцем. Содержимое, во всех смыслах попавшее в переплёт, сохранилось лучше. Но собрать его воедино, придать удобочитаемый вид, стоило немалых трудов и терпения. Это был стопроцентный черновик: со множеством помарок, вставок, текстовых перекрестий, взаимоисключающих суждений, а иногда и наивной, беспомощной брани – какой и должна быть живая жизнь, наверное... Да и края листов пообгорели изрядно.
Сергей Осмоловский.