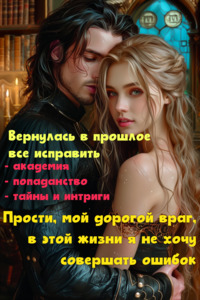Как мне спать не хотелось
Как мне спать не хотелось
Как мне спать не хотелось.
Засобирался я как-то поспать на ночь глядя. В пижаму любимую переоделся, лёг в кровать и стал сна дожидаться. А где ж тут уснуть, если за окном солнце во всю старается?
Вот и стал я языком к потолку тянуться от скуки. Пробую, значит, достану или нет. И немного, вроде, остаётся совсем до потолка-то, да жар от лампочки всякий раз мне язык обжигает и дотянуться не даёт.
Бросил. Лежу в темноту вглядываюсь; Мечтаю, что мне главный военачальник медаль за воинский подвиг на параде вручает, а я, значится, скромничаю и нравлюсь всем.
А потом вспомнил, что и армии-то у нас никакой нет. И военачальниками наша планетка не славится, потому как всех врагов победили давно. Еще двадцать одну осень назад, когда мне всего десять лет было.
Ну так вот, лежу я, не сплю, складочку на пижаме своей пальчиком нажимаю. Как вдруг, окно в комнату мою распахнулось и залетает шмель! Жирный такой, пушистый.
Хвать за шиворот! Да и прочь меня из комнатёнки понес.
Лечу я над городом и думаю, что погода сегодня распрекрасная для таких вот полётов. А что? В воздухе огурцами свежими пахнет, в дали снежок на крышах домов искрится, а ночка теплая, хоть кровать на улицу выноси, да живи всю осень. Красота словом. Но над городом мы не долго кружили. А когда он позади остался, шмель меня к себе в дупло принёс.
- Оставайся, - говорит, - за главного, раз спать не хочешь. А я полечу, мёд в вёдра собирать.
Я головой киваю, - соглашаюсь, значится. А сам диву даюсь, откуда это я язык шмелиный знаю?
Подивился немного, да и бросил. Стал ворочаться с боку на бок, искать, как бы в дупле поудобнее устроиться. Шмель-то, надо понимать, небольшой. А дупло, и того меньше. Так в нем еще и стол дубовый с двумя стульями, шкаф, да часы напольные, под самый потолок.
В общем, закинул я ноги себе за уши, носом в пол упёрся, а руки на пупу сложил, - лежу. Вроде, ничего, - удобно. Даже в сон потянуло.
Прикрыл, было, глаза и слышу, жужжит кто-то снаружи. Да назойливо так, аж заходится. Я тогда глаз один из дупла на свет божий высунул:
- Кто, - спрашиваю, - пожаловал? Каких гостинцев принёс?
Снаружи помолчали сперва малость, будто там нет никого, а потом и отвечают:
- Муха это. Хотела вот у шмеля вёдра в долг попросить...
- Не годятся, - говорю, - тебе, муха, вёдра шмелёвы. Потому как они для мёда предназначены, и только. А после твоих дел мушиных, в них только цветы хорошо расти будут.
- И то верно, - задумчиво сказала муха и, перестав жужжать, улетела во свояси.
А я глаз свой обратно в дупло засунул, поплевал на него и стал рукавом пижамы тереть, - уж больно он запылился, пока мы с мухой болтали.
Тру я его, значит, как следует, а снаружи снова жужжание. И посмотреть бы любопытно, а глаз-то занят мой. Ну и стал я его ещё быстрее тереть. Да так усердно, что аж дым повалил коромыслом и в одно мгновение собой дупло заполнил.
Я тереть то бросил, чтоб беды не случилось, а сам чувствую, что второй глаз от дыма заслезился.
Ба! - думаю, - у меня ж второй есть!
Взял я его и из дупла наружу показал.
А он слезами весь обливается, да еще какими! В раз под деревом ручей образовался!
Слышу, вдруг, спрашивает меня кто-то:
- Что ж за горе у тебя такое случилось, что ты тут целую реку нарыдал?
Я глазом завертел по сторонам и сквозь пелену вижу, сидит на ветке пчела.
- А ты не знаешь разве? - отвечаю, -Шмель-то вчера в ведро с медом упал, - до сих пор его найти не могут.
- Счастье-то какое! - внезапно обрадовалась пчела, - это ж теперь можно каждый день к нему в гости прилетать! Пока не найдется!
И на этом затерялась средь листвы.
"Странная", - подумал я и глаз обратно в дупло вернул.
До вечера больше не прилетал никто.
Правда, дважды в дверь стучались, но я не стал открывать, - лень было.
А к вечеру шмель вернулся. Принес два крохотных ведра мёду, поставил их у порога, а сам прямиком к шкафу, и давай из него банки стеклянные на пол выкидывать.
- Вот, - говорит, - раз тебе спать не хочется, - бери, да из ведра мёд по банкам разливай напёрстком.
- Зачем напёрстком? - спрашиваю я шмеля
- Как зачем? Чтоб знать, что в каждой банке ровно сорок семь напёрстков мёду.
Я сделал задумчивый вид, а потом, согласившись, принялся за дело.
Достал из кармана своей пижамы золотой напёрсток и давай мёд по банкам раскладывать. Да так ловко, что управился быстрее, чем ручей высох, который я своим глазом наплакал.
А Шмель выглянул из дупла, ручей-то этот заприметил и стал банки с мёдом в него скидывать.
- Удачно, - говорит, - что ручей аккурат к ярмарке выходит, - не придётся на себе тащить.
Покидали мы все банки из дупла в воду, обнялись со шмелём, и вслед за ними на ярмарку полетели.
Летим, смотрим, чтоб по дороге наш медок лесные жители не растащили.
Точнее сказать, я смотрю. А шмель за дорогой следит.
Вдруг, вижу, одна банка под водой скрылась. Думал, что показалось. Нет! Точно! За ней и вторая нырнула.
Кричу шмелю:
- А ну, летим поближе! Кажись, рыба мёд на дно тащит!
Шмель на снижение пошёл сперва, а потом, когда я ноги уже намочил в ручье, как замашет крыльями сильно-сильно! Аж ураган поднялся.
Смотрю, вода испаряется и над нами облаком повисает. А на земле рыбы видимо-невидимо!
Лежат эти рыбёшки, трепыхаются сперва, а потом, как по команде, встают, да и в землю зарываются.
- На силу медок отбили, - говорит шмель, - ох и ушлые, эти рыбы.
Собрали мы банки и пешком дальше отправились.
А как дошли до ярмарки, так посреди неё и устроились. Мёд напоказ выставили и стали торговлю вести.
Ротозеи со всех концов света к нам на запах потянулись.
- Почем, - спрашивают, - за банку берёте?
- Сто, - отвечаю, - но, так уж и быть, за двести уступлю, если брать будете.
Народ, как слово "уступлю" услыхал, так давай наперебой нам со шмелём свои денежки тянуть, - только брать успевай. Ну и в раз, всю сотню банок, по сорок семь напёрстков мёду, разобрали.
Столько денег у нас стало, что под них мешок понадобился. Оставил я шмеля выручку сторожить, а сам пошёл по ярмарке, искать мешочных дел мастера.
Иду, по сторонам гляжу. Кого только нет! Чем только не торгуют!
И слёзками детскими в пузырьках, и черепками благовонными, и простынками, молью подъеденными!.. Встретилась мне даже старая медведка, что землицей в гранённых стаканах приторговывала. Страсть, - какая ярмарка любопытная выдалась.
Ну и нашёлся, наконец, среди прочих торгашей и мешочных дел мастер. Он, заметив, что я к нему направляюсь, загоношился сперва, а потом приветливо так и кричит:
- Подходи, мил человек! Выбирай! Вот мешок из сетей рыболовных, вот из червей безголовых! А если поважничать решил, так бери себе мешок и вовсе, из усов в вине мочёных!
- А долго ли работы дожидаться? - спрашиваю у него.
- Ну, сеть у рыбаков стащить, - быстро, - час до реки добежать, да ещё полчаса обратно.
Черви у меня накопаны уже, - только головы отделить.
Ну, а усы, сам понимаешь! - Пока вырастут, пока сбреются, да пока в вине сил наберутся - минут пять, не меньше.
Подумал я, поразмыслил, и решил готовый мешок взять, - из струн балалаечных сотканный. К тому ж он самый дешёвый оказался.
Вернулся я к шмелю и стали мы с ним монетки да бумажки в мешок складывать. Кладём потихоньку и слышим, вдруг, музыка заиграла. Задорная такая, - я аж в пляс чуть не бросился. Народец подле нас и тот пританцовывать принялся на ходу.
Мы тогда с шмелём деньги в мешок кидать прекратили и стали прислушиваться. А вокруг поразительная тишина образовалась.
Не сразу я догадался в чем дело, а потом прояснилось всё в раз. Мешок-то, что я купил, из струн балалаечных соткан! Вот он и звучит, когда в него монетки сыплются.
В общем, денег у нас столько было, что люд по всей ярмарке целый час выплясывал.
Собрались, наконец, и в обратный путь двинулись. Да не успели и пяти шагов пройти, как шмель мне и говорит:
- Эх, чаю бы с мёдом...Всю жизнь мёд собираю, а ни разу и не пробовал.
- Прямо-таки и ни разу? - удивился я.
- Ни капельки! - заверил меня шмель.
Вспомнил я тогда, как по пути за мешком видал бабушку, что самоварами торговала, и говорю моему товарищу:
- Так денег-то у нас теперь, хоть в прикуску ешь! Давай самовар купим и станем чай пить от пуза.
Смотрю, шмелю идея моя по нраву пришлась. Идёт поджуживает себе по нос что-то, а сам глазами улыбается.
Ну, и повел я его к бабке с самоварами, значится.
Пришли, стали выбирать. Бабуля засуетилась, стала нам товар свой нахваливать:
- Вот, - говорит, - самый лучший самовар, что у меня есть! Большой, деревянный...и рот у него! Сколь чаи не гоняй, а он всё истории рассказывать будет и не повторится ни разу.
У меня от такой новости, аж в носу защекотало!
- То есть как?! - говорю, - Где это видано, чтоб самовары из дерева делали?
Шмель тоже возмущенным сделался.
- Ты нам, бабушка, головы не морочь! А предлагай другой самовар! Да чтоб, как положено, из меди!
Не сторговались мы, словом, с бабкой. Потому как шмель и вовсе чаю перехотел, а я и не любил никогда. Только отошли от неё, - чувствую, что ноги у меня мёрзнуть стали. Ну, я тогда за стопы себя ладонями ухватил и так пошел. А шмель поглядел на меня и говорит:
- Сапоги тебе нужны...Снег-то, он хоть и тёплый, да больно уж мокрый. А от сырости, сам понимаешь, и вши завестись могут, и грибы на локтях вырасти...
Иду я и думаю: "Умный он, все-таки, этот шмель! Ему бы детей грамоте обучать, а он, знай себе, всю жизнь с этим мёдом мыкается".
- Ты вот что, - продолжает он, - полезай-ка в мешок, да отогрейся. А я пойду пока тебе пару добрых сапог справлю. Заодно и денег поменьше на себе волочить придётся.
Так и поступили. Я под весёлую мелодию в мешок полез, а друг мой за обувкой отправился.
Вот лежу теперь. Монеты под голову сгрёб, бумажками укрылся, - тепло, мягко, - благодать. Даже в сон потянуло. А спать нельзя! Шутка ли, столько добра без присмотра оставить?
Ну и стал я, по обыкновению, чтоб не уснуть, языком кверху тянуться.
Тянусь, а сам мечтаю, что люди во всем мире петь разучились, и будто я единственный про меж них остался, кто так спеть умеет, что любая непогода или, скажем, хворь какая, в миг отступит. А потом вспомнил, что и песен то хороших давно не осталось. Последнюю пятнадцать зим назад спели, когда мне ещё только шестнадцать лет было. А новые песни и не поются вовсе, - а только, как молитва бубнятся.
Замечтался я, задумался, - и не заметил, как лапа чья-то когтистая в мешок ко мне нырнула, да кааак схватит меня за язык! И давай меня наружу тянуть.
- Пусти! - кричу, - безобразие!
Руками-ногами упираюсь тщетно. А меня всё тянут.
И только моя голова из мешка показалась, как вижу, что за язык меня ворон чернее ночи тащит.
- Ну, - думаю, - сейчас я тебе!..
Стал я по собственному языку вверх карабкаться. Лезу, а самому сладко! Видно, ладони то у меня в меду перепачканы. Пока оседлал ворона, вдоволь наелся! Даже пожалел, что самовар со шмелём у бабки не купили. Чай сейчас очень кстати пришёлся бы.
Уселся я, значит, на ворона и давай щекотать его за ушами. А тот хохотать принялся во весь свой черный клюв, да так разошёлся, что язык мой и бросил.
А я-то вместе с ним хохочу, - уж больно заразительно он смеётся, этот ворон. Отродясь такой весёлой птицы не встречал.
Ну и раззявил я рот свой, что есть мочи, а язык мой взял, да и выпал изо рта.
Я, было, за ним прыгнуть хотел. Так ведь высоко же! Разобьюсь!
Подумал немного, вырвал два пера из ворона и прыгнул вниз.
Лечу и думаю: "Ну ладно б, язык старый был, бестолковый. Так ведь нет! Хороший язык! А главное, я им жутко дорожил всегда...Жалко, словом".
Расправил я перья в стороны, будто крылья, и снижаюсь медленно по спирали. За дымкой земли не видать, а вокруг всё серым-серо из-за облаков. Скучно парить.
Ну я и давай рассуждать, - а что делать-то ещё? И мысли вот какие в моей голове роиться стали:
А что, если бы у всех людей в мире разом язык отвалился? Да так, что назад его приладить не представлялось бы возможным. Это ж какая жизнь началась бы? Никто никому обидных слов не говорил бы больше, а стали бы вместо этого слушать. Вот рыбы, скажем, - всем известно, что ни рассуждать вслух, ни стихов рассказывать не умеют. А как знать? Люди-то, они ж без умолку спорят о всяком спокон веков, и слушать не привыкли. А там, глядишь, прислушаются, и окажется, что карась ничем не хуже соловья петь умеет. Или червячок какой, - замечательным образом под землёй скребётся, получше всякой музыки.
Нет, оно ж, конечно, и хороших слов немало говорится в мире. Но и добро ведь не одними лишь словами измеряется. А всё больше и важнее, когда делом.
Приземлился я с этими мыслями и стал по сторонам смотреть. Гдей-то мой язык? Одним глазом в лес гляжу, - другим туда, где ярмарка вдалеке. А руками, перья вороновы побросав, подле себя, по земле шарю.
Вижу, вдруг, неподалёку, под кустом, целая армия муравьёв язык мой в нору затащить пытается. Видно, мёд, от ладоней налипший, их привлёк.
А один, важный такой, с портупеей через плечо, командует всеми.
Ну, я, недолго думая, и кинулся к ним. Бегу-бегу, а они от меня всё дальше и дальше. Не пойму, как же это!? А оказывается, что смотрю-то я в правильном направлении, да только ноги мои меня в обратную сторону несут. Пока развернулся, пока добежал, - муравьи уже язык-то в нору и утащили. Улыбнулось мне только за кончик ухватиться, - и тот выскользнул.
Ну, думаю, ничего не поделаешь теперь, - лезть придётся. А нора не большая-не маленькая, и не ясно, - пройдет в неё голова или нет.
Сжался я тогда, что есть мочи, - вроде проходит. За головой тело, за телом ноги, и вот он я весь посреди норы и очутился.
Смотрю, а кругом темень, хоть глаз коли. Достал тогда я наперсток из пижамы своей и у самого входа в нору его на землю положил. Покрутил-повертел, пока солнечного зайчика не поймал, - ну и в глубь норы его направил.
Муравьи от света в рассыпную бросились, а язык мой в кучу к другим языкам закинули.
И не всякому же так повезти может! Я имею ввиду, - хорошо, что не уши потерял, - а то ж ведь пришлось бы два искать. А уж если б глаза, так и вовсе, - пиши пропало!
Стал я, значит, из кучи языки наугад доставать и в рот себе прилаживать.
Взял первый, - ничего, вроде, удобно держится. А как губы разомкнул, аж вздрогнул от неожиданности! Откуда, думаю, тут под землёй животное взялось?
А это я, оказывается, реву, как бык!
Выплюнул я быстренько бычий язык и другой стал ладить, поменьше предыдущего.
Так и руки не успел изо рта убрать, как такой визг поднялся поросячий, вперемешку с хрюканьем утробным, что у меня даже уши заложило. А муравьи, так и вовсе, от испуга из углов повысыпали и мимо меня к выходу ринулись.
Пришлось и этот язык выплюнуть.
Ладно, думаю, другим путём пойду.
А то до скончания веков так проискать можно.
Склонился я тогда над кучей с раскрытым ртом и ждать стал.
Языки от любопытства приподнялись чуть, а один, смотрю, робко так, мал-помалу ползёт ко мне. Признал, видимо, родимый.
Постеснялся немного, покружился, да и прыгнул ко мне в рот.
- Вперед плетёшься в неизвестность! Назад же мчишься ты, поскольку знаешь, что домой! - вдруг изрёк я.
Ну вот, совсем другое дело! Узнаю свой язык распрекрасный.
Забрав на обратном пути напёрсток, что оставил у входа, я покинул нору.
Выбрался на свет божий и зашагал туда, где мешок наш со шмелём остался.
Иду, а самому покоя нет, - вот муравей тот, что командовал остальными, - он такой важный от того, что у него портупея через плечо? Или все-таки наоборот, - портупея у него через плечо от того, что он такой важный? Вопрос-то не шуточный. Вот, скажем, если мартышку в балетную пачку и пуанты нарядить? Она ж балериной не станет от этого? А ведь и с другой стороны, если натурально балерину взять, то и она, хоть на коне в доспехах, хоть в поле с серпом в руках, - балериной быть не перестаёт.
Вот и думаю, - муравей тот, кто, всё-таки? Мартышка или балерина?
За этими мыслями я до нужного места и добрался. Смотрю, стоит возле мешка нашего со шмелём баба пьяная, а на руках у неё детишек трое. Чумазые такие, что и не сказать сразу, мальчики это или девочки. Стоит и причитает:
- Ты, Шурочка, бросай от нас хорониться, да ступай на работу, пока сам с голоду ноги не протянул.
Не отвечает никто бабе. Да и нет никого поблизости. Не иначе, думаю, как Шурочка в мешке притаился.
- А, ну-ка, дамочка, - обхожу я её и прямиком к мешку. Заглядываю в него и вижу, что внутри, прямо на монетах стол стоит, а за столом мужичонка в одних портках сидит и из бутылочки себе в кружку наливает что-то.
Он меня не сразу приметил, а уж только тогда, когда я в мешок забрался и к столу подошёл.
- Шура Чужебратько, - представился он, глядя в кружку. А потом, подняв на меня глаза, добавил:
- Чужое брать люблю, понимаешь? От того и фамилия такая...
- Ага, - говорю, - про чужое я сразу понял. Видать, работать тебе не в радость, а детей кормить надо, - вот ты к чужому добру и прикладываешься.
- Один из них мой только, - отмахнулся Шура, - а как знать, который из них, раз они немытые вечно? Покормишь, а вдруг чужого? А я чужих детей кормить не подписывался.
- Дело твоё, - отвечаю, - а вот мешок с деньгами мой, так что, попрошу тебя, Шура...Сам понимаешь.
Чужебратько смачно икнул, и подливая себе ещё в кружку, сказал:
- Всенепременно. Только не мог бы ты сперва вылезти наружу и бабе моей сказать, что меня здесь нет. А я б тогда и заплатил тебе, как следует.
Посмотрел я себе под ноги и подумал, что денег много не бывает, а дело пустяковое. Ну и показался наружу:
- Нет здесь никого! - кричу бабе, - только дырка на самом дне. Небось, Шурочка ваш через неё и скрылся.
Огорчилась баба. Плюнула через плечо, да одному из дитятей своих в глаз угодила. Ребенок в плач, а баба печальная прочь пошла.
Вернулся я к Чужебратько, смотрю, а он последнее прямо из бутылки допивает.
- Ушла, - говорю, - плати, да тоже собирайся в путь. А то шмель с моими сапогами вернётся - не обрадуется.
Шура снова икнул.
- Всенепременно.
Поднялся он из-за стола, наклонился к ногам и пригоршню монет зачерпнул.
- Спасибо тебе, мил человек! - воскликнул он и протянул мне одну руку с деньгами. А вторую к себе в карман убрал.
- Ну, если б ты мне платил не моими же деньгами, то это даже много, - сказал я и принял протянутые Чужебратько монеты. Тот пожал плечами, схватил подмышку стол и стул, и выпрыгнул из мешка, под весёлый балалаечный аккорд.
А я поудобнее устроился и в ожидании шмеля снова размышлять стал:
"А что, если бы все хорошие люди в раз стали отдельно от плохих жить? И не только люди, чего уж! И шмели, и муравьи, и даже медведки! Думается мне, что тогда б одна половина мира процветать стала от высокой морали, а вторая сама себя извела бы в скорости. И, казалось бы, - устроить это можно легко и просто,
да где ж знать наверняка, хороший человек или плохой?
Вот Шура Чужебратько, к примеру, - и обмануть не постесняется и чужое добро ему не в тягость. Ну так ведь не за это ж его баба полюбила, надо полагать. Кто ж за плохое любить станет?
Ну, а в целом, жаль, конечно, что так. Потому как, подлецу добрый поступок так же долго помнится, как и добряку плохой. Разве это справедливо?"
Не успел я эту мысль додумать, как слышу знакомое жужжание снаружи.
"Не иначе, как шмель с ярмарки вернулся", - думаю. И точно! Вылезаю из мешка, - вот он, родимый. В одной лапе сапоги красные держит, а в другой самовар деревянный.
- На вот, примеряй, - говорит он мне, - хорошие сапожки я тебе выкружил. Были б мне по размеру, так и оставил бы себе.
Я обувку примерил и расхаживаю взад-вперед важно. Ногам сразу тепло сделалось, а шаг твёрже и увереннее стал.
- Ты устал, наверное, с дороги? - спрашиваю у своего товарища пушистого.
- Ну что ж, твоя правда. Самовар покупать - занятие весьма утомительное.
- Ну ты тогда мешок бери, да на плечи ко мне полезай. В таких сапогах ладных я теперь могу хоть весь мир обойти. Только вот что: у меня без сна веки совсем тяжёлые стали. Я прикрою их, пока до дупла идти будем, а ты меня направляй по дороге.
Так и отправились в путь: я в сапогах своих красных шагаю, а шмель у меня на плечах сидит. Четырьмя лапами он мешок и самовар держит, а двумя оставшимися меня за уши, чтоб рулить сподручнее было.
Идём в тишине уставшие. И десяти шагов не прошли, как глаза мои прикрылись и видится м
не, как я в окружении благородных господ за большущим столом ем и пью всякое.
И так нам весело и интересно, что сидеть бы так четыре века. А главное, никто никому приятного аппетита не желает. Это, как по мне, жест возмутительный. Как аппетит неприятным может быть? Аппетит либо есть, либо его нет! А если я сижу за столом и за обе щеки уплетаю курнички, так будьте уверены, что делаю я это охотно и с большим удовольствием! И безо всяких там пожеланий. Это уж, не говоря о том, что, роняя крошки изо рта, надобно "спасибо" ответить, а не то эти разлюбезные желатели аппетита быстренько тебя в неприличные люди запишут.
А потом вспомнил я, что ни курничков не ел давно, ни с господами благородными за одним столом не выпивал. Последний раз шесть вёсен назад, когда мне двадцать пять лет было.
А ныне вот, лучше со шмелями знаться, чем с людьми. Потому как среди них сволочей меньше водится.
Пока думал обо всём этом, чувствую, что земля из-под ног моих пропала. Открываю глаза и вижу дом знакомый передо мной. И несёт меня мой пушистый друг прямиком в окно моей спальни.
- Это что же получается, - спрашиваю, - у меня дома чай пить будем?
- Нет, - отвечает шмель, - передумал я опять с самоваром. Полечу, да обратно его бабке сдам. Ну что за самовар, в самом деле, если он из дерева?
- Это ты правильно говоришь... а что же я?
- А что ты? Ты в кровать свою приляг, да постарайся уснуть наконец. Умаялся, поди.
Влетели мы со шмелём в мою спальню. Он меня аккурат над кроватью отпустил, мешок рядом бросил, и кричит:
- Медовых снов тебе!
- Погоди, - говорю, - а как же монеты? Ты ведь столько трудился!
Друг мой пушистый на подоконнике присел на секунду и отвечает:
- А почто они мне? Я же просто шмель. А шмелям монеты за ненадобностью.
С этими словами он спрыгнул вниз, оставив за собой звук удаляющегося прочь жужжания и открытое окно.
А я, грустно стянув сапоги, лёг на боку и сомкнул свои веки. Потом думаю, - напёрсток то в кармане, небось, мешаться будет, - дай-ка выну.
Вздрогнул, сел на кровати
и давай спросонья по себя карманам хлопать.
Нет напёрстка! Ровно, как и карманов!
Продрал глаза, смотрю - ни мешка с монетами, ни сапог красных. В комнате темно, а за закрытым окном в небе звёзды предрассветные висят. Усмехнулся я над собой и, повернувшись на другой бок, сладко уснул. Только подумал перед этим: давненько я снов не видал...Последний раз прошлым летом, когда мне ещё тридцать лет было...
Моей дочке Дарине посвящается.
#2132 в Мистика/Ужасы
#25 в Фолк-хоррор
#25499 в Фэнтези
#397 в Тёмное фэнтези
Отредактировано: 24.01.2025