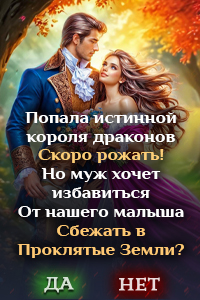Когда нечем крыть
Когда нечем крыть
"Владыка Мира! Посмотри на моих воров!
Даже худшие из них достойны похвалы!"
Рав Арье-Лейб из Шполы
Гуча родился на базарной площади под деревянным прилавком, куда скидывают остатки гнилых овощей, ошмётки лежалой рыбы и прочий мусор. Вчерашняя газета, в которую до этого была завёрнута копченая скумбрия, шелестела портретами партийных руководителей, сводками местных новостей, последними достижениями народного хозяйства и кубиками наполовину разгаданного кроссворда. "Краткое устное замечание — семь букв, последняя — "а". Гуча перебрал в уме всевозможные варианты, но не нашёл подходящего. Чёрт с ним, с кроссвордом. Выбравшись из-под груды старых газет, Гуча с удовольствием принялся наблюдать за папашей Цукерманом.
— Вы только взгляните на эти часы, молодой человек, — охмурял покупателя тощий старик Фима, — это вам, таки, "Лонжинс", а не хрен собачий.
"Лучше бы это был хрен собачий", — бубнил под нос Цукерман.
— А они идут? — интересовался покупатель.
— Ещё как идут, — уверял барахольщик и аферист Фима.
"Чтоб у тебя ноги так шли ", — цедил сквозь зубы папаша и сплёвывал на пол.
Гуча очень гордился родителем и тоже сплёвывал на пол.
Торговля у конкурентов шла неважно. Из рук вон плохо шла у них торговля. Никто не мог сравниться с папашей Цукерманом в искусстве проникновенного проклятия, шилта*. Разве что Маняша-белошвейка.
Маняша, накинув на плечи кружевную шаль и повязав голову расшитым платком, прохаживалась по рядам, высматривая себе новую жертву.
— Что, детка, нравятся кружева?
Детка — серая мышь в драповом пальто, робко поднимала глаза на Маняшу. Происходил захват позиций, и удав, плотно обхватив добычу в кольцо, теснил ее за угол, не оставляя ей ни малейшего шанса.
— Да это разве кружева? — усмехалась Маняша, показывая ровные белые зубы, — это прощальный привет старой девы. Вот, смотри.
Маняша распахивала шубейку, и серая мышь смущенно охала, взирая на шелковые лифчики и капроновые чулки, развешанные на Маняшиных плечах. Невысокого роста, но, как говорится, поперёк себя шире, Маняша легко размещала на себе образцы самостроченного неглиже.
— Бери, бери, не прогадаешь. Тебе я вижу, шибко надо, — Маняша называла цену, и серая мышь охала во второй раз.
— Да не жмоться ты. Чем мужика собралась брать? Панталонами с начесом из универмага? Или, может, хлопчатобумажными респираторами? А у меня продукт фирменный, французский. Между прочим, наше правительство тоже одобряет, сама слышала: "Каждая советская женщина имеет право на качественный бюстгальтер". Ты же у нас советская женщина?
Серая мышь робко кивала, протягивала Маняше мятую купюру, получала бумажный свёрток и, окрылённая, счастливая и уже не такая серая, спешила прочь с рынка.
С Цукерманом Маняша вела войну. Нечестную войну, бабскую. Корни этой войны уходили в такое дремучее прошлое, что никто уже не помнил, с чего она началась. Маняша отравляла Цукерману воздух и пила его кровушку такими ведрами, что им впору было называться кровными родичами. А Цукерман делал вид, что ему плевать на Маняшу и ее куцые попытки вредительства. Вот только однажды явилась к Цукерману судьба в образе сотрудников ОБХСС и конфисковала приемники, примусы и даже ни в чём не повинный "Зингер", который Цукерман взялся починить. Чудом отвертелся. А то, что это Маняшиных рук дело, так про то люди добрые прознали. Вот тогда и приложил Цукерман Маняшу словом. Да только Маняша, колоритная русская баба, на маме лошен* не хуже какой-нибудь Голды или Дворы размовляла. В общем, в ответ крыла с таким чувством, что весь рынок, да что там рынок, вся Шпола тряслась в припадке. А Шпола — это всё-таки не Одесса, где залихватским шилтом разве что приезжего удивишь.
Маняша тогда не удержалась, прошла мимо мастерской Цукермана полюбоваться на разгром вражеского логова.
— Убью, — твердо сказал Цукерман.
— Ты на кого батон крошишь? — Маняша вины не признала и, сложив белые руки на необъятной груди, смачно плюнула Цукерману под ноги.
— Да чтоб тебя уже крошило, — сдвинул густые брови Цукерман.
— Да чтоб ты срать ходил или трижды в час, или трижды в месяц, — отозвалась Маняша.
— Да запросто, лишь бы на твоей могиле.
У Маняши заходил подбородок и покраснели щеки:
— Вот откинется мой Шурка, посмотрим, кто там на чьей могиле.
— Ха. Не осталось от твоего Шурки ни хера, ни шкурки.
— Зато от Фиры твоей осталось одно воспоминание. Сам, небось, на тот свет её и отправил. Задавил своей шмоковатостью. Копейки для нее жалел, поц. Была у тебя кобылка хромая, да и та скопытилась. И ни сына тебе, ни дочки.
— Зато у тебя, поди, сокровище...
— А ты на мое сокровище, на мою Натулечку, хавальник свой поганый не разевай.
— Сокровище, говоришь? Да чтоб мне с места не сойти, твой Шурка это сокровище в карты проиграет.
— Ты что мелешь, поганец?
— Да то. Тебя ж в свое время проиграл.
Маняша затряслась всем своим пышным телом, зло зыркнула на Цукермана и двинулась прочь.
— Что, крыть нечем? То-то же, — бросил вдогонку Цукерман.
Именно в этот миг под деревянным прилавком, что напротив мастерской, на тусклый Божий свет народился Гуча. Выбравшись из-под груды старой макулатуры, Гуча огляделся по сторонам. В углу что-то копошилось. Что-то мутное, бесформенное, жалкое. Зулька. Убогое создание, вызванное некрытым шилтом. Гуча мог задавить ее еще до того, как она выберется из вороха грязного тряпья. Но не стал. Сама сдохнет.
#31609 в Проза
#17708 в Современная проза
#9978 в Мистика/Ужасы
#4268 в Паранормальное
Отредактировано: 06.08.2018