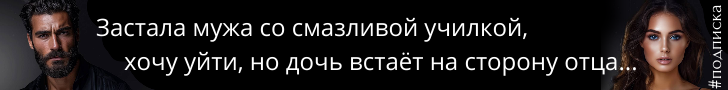Когда я плачу. Письмо философа
Когда я плачу. Письмо философа
Он поднялся с одра, где спать было тяжко. В его теле сила и смятение чудилась не существующим духам, живущим во комнатной тьме. Зажигая свет лампы, образ его сел за стол красный от дерева и брызга тусклого света. Пред ним размозжился об стол лист бумаги, ручка поникла в крепкой руке, и больше ничего не было видно повсюду. Страх черных глаз под густыми бровями опустился на тоненький лист пожелтевший. Так и сел он за подранный стол из красного древа и с вздохом, режущим воздух, начал писать словно Богу письмо:
«Рожденный не богом, а человеком, кормимый не свыше, но дном без съестным, воспитанный не человеком, а духом собственным, предначертанным мне, пишу это письмо к абсолюту, к сущности жизни, к людскому, словами полня и под завяз набивая их смыслом, столь бренно потерянным нами и мною. Мне кажется, что должно быть мне выше и писанию моему также сие подобает. Однако пишу это сообщение в никуда, ни для кого, чтобы оно было вниманием обделено. Я словно кто-то чуть выше, чем человек пророчу письму моему забвенье и смерть. И не нуждается оно ни в яростных обсуждениях, ни, более того, в соболезнованиях и заразы сострадания. Абстракция это, но правда. Не для каждого будет мил посыл сего писания – но дело ли мне до этого? – на вид коробящего факта. Главное видится мне, что если будет кто-то, кто увидит что-то большее здесь, то я буду рад, не счастлив, но рад.
Я плачу! Рыдаю на взрыв из-за тьмы отреченья от мира! Я плачу на почве существа человека, ибо трагедия я, и она бушует во мне. Хаосом быть так сладко и тяжко… Страдать мне приказано тем, что не видано, за поиски смыслов, за их же потерю, за то, что все вижу, ясно бредя по двусторонней унылой земле.
Я плачу, покамест не зрею понимания взор с лиц едва ли знакомых, их вялого вида заурядный кошмар. И кто же может позволить себе величину пониманию схожей? Чудится мне, что мало ли кто. Мы в темноте, рыдаем и плачем, режем друг друга, безумно скорбим и никто не желает хоть чуточку к свету обратить многострадальный и истощенный свой лик. Стараясь упиться точно все у нас славно, мы лишаем свой дух, свое Я восходов и возвышений, скитаясь сквозь камни и груды обломков великих строений и теней культуры. Стоит принять факт во внимание, и, даже… понять! Ибо не всем даровано понимание, не может это нежное и тонкое, будто стеклянное чувство всех нас обременить. Человек имеет поскудное свойство не проецировать себя во другом, будь то предмете, будь то в живом. Понимать – есть искусство тонкого человека, не инструмент, а часть его силы и воли.
Я плачу… А то ли не плакать, когда в пространстве без смыслов, в интенции заразной нищеты духа и декаданса рождаюсь и умираю, быть может, не физиологический, напротив – душевно! Ни интереса, ни муки созидательного гения не может понести за собой человек реального времени. На примитив настроено его словно падшее Я (но было ли оно когда-либо выше?), всегда созерцать готовый и ласковый, ни делом, ни ответственностью пред жизнью он вовсе не блещет. Все скучно и однообразно, норма сделалась противною новоявленной конъюнктуре, быть нормальным стало не модно… Но что есть «нормальный»? «Нормальность» — это спорный вопрос. Доселе и ныне никто не нормален, и не был! Ибо никто не может позволить сломать в себе нищету, зависимость и, в особенности, драчливый ресентимент по отношению к норме в жилах у воина текущей. Да, признаю, я слукавил… все же существовали те, кто стался способен на нечто нормальное, чтобы весь мир под эту свою нормальность загнать. Задумавшись и утомившись в углах потаенных, приходит ответ – то, что вскоре нормой зовется являлось делом «не нормальных», по-иному – девиантов, отступников и изгоев. Гонимые при жизни, становились частью нормального по забвению тела, некоторым уготовилась роль в рамках нормы – вроде незыблемой – до рассыпания на смертном одре. Не те, что нормальными зовутся, норму творят, а те, кто бунтуют и сносят столбы цивилизаций, изживших искру своей бури и успехов когда-то столь юных. Последнее тревожит, они потерялись, осталось лишь низкой всепоглощающей, да изгоняющий заурядности в тьму масса и имя ей – стадо.
Я плачу, ведь в океане власти слабейших тону и блуждаю на угодиях волка не в той шкуре, что культивирует (он стар и примитивен, но первобытно силен подобая настоящему зверю) тупую ненависть к себе и всему исходящему из своего Я. И только стремимся пустить эти истоки из Я на благо седое свое. Ко мне прибегают ровно как инструменту красивому, стальному и крепкому, оплоту чужих постулатов и прерогатив, дарованных мне властвующими слабостями, пренаполненных творческой импотенции. А так – я не нужен! Ибо дышу как себе повелю. Они хотят красивый, ладно работающий винтик в механизме, я же желаю быть механизмом! И их даже не трудно понять… Они хотят быть властью, не стадом, хотя выходцами из оного де-факто являются слабые и мстящие за неповиновение душевное.
Я плачу, гонимый духом великим, однако величие свое растерявшим, до боли простым, чем кажется люду. Он требует быть гордым за былое и канувшее. Отнюдь никак не хочет порождать что-то новое, вершить достойною историю для новой гордости с трепетом в сердце, его врожденная прокрастинация к великим делам поражает, або власть свою хочет держать лишь на прошедшем, дабы не напрягаться, других страдать заставляя (благо для них – слепы их жертвы). И стадо не против, стаду прелестно. Оно идет в бой, за того, чего нет уже сколько лет. Зато стимуляторы духа великого в прошлом, будут в бесчисленных зефирах и амурах. Они преступно играют на вере и форсят то, что требует свободы посмертной, то, что нужно отпустить.
Я плачу, ибо не могу созерцать несвоевольно того, что к жизни так норовит – настоящую живую поэзию тела в связке с душою. Против нее уподобившись миссионерам посредственности настроен весь мир, все стадо, весь вьючный скот! Настоящий добродетель низвергает чувство высокого вкуса, его результат-представитель. Уродливость и, во всех смыслах, мягкотелость встречает халуйски народ. Вместе с прекрасным в эстетике тела, умирающим лебедем гибнет святая любовь. Вышина духовно богатой манеры спустилась, смешалась с низами. Из чего теряется благородство, выкорчевывается девственная, всеокоймляющая краса, последнее богатство тела и неосязаемых его членов там, где нас нет – в будущем поколении. Хоть вижу сие уже в эти дни, точно неопровержимую догму.