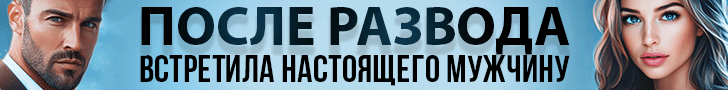Колокол
1
Далекие холмы заносило снегом. Метель началась с раннего утра. Резкие порывы ветра рвали сушившиеся на веревке меха, которые мать Даны повесила вчера вечером на улицу в надежде, что от холода яйца моли, давно оккупировавшие семейную ценность, замерзнут. Ветер безжалостно дергал лисьи воротники, песцовые накидки, подкладки к плащам. Дана смотрела в замороженное окно равнодушно. Наконец, под сильным порывом ветра длинный бесформенный кусок меха оторвался и тут же упал на землю. Его вяло поволокло по заснеженному внутреннему двору, пока он не уперся в низкий каменный заборчик. За ним виднелся снежно-белый холм, вершина которого заросла редкими кривоватыми деревцами. А за деревцами была проселочная дорога. А за дорогой — деревня.
Дану слегка колотило от холода. Он насквозь, как моль, попортившая весь мех, проел дом. Три камина и большая печь в зале не давали достаточно тепла, а чад от них стоял невероятный. Дана вышла в коридор, провела пальцами по отклеившимся там и тут желтоватым обоям, по крепким дверям комнат ее братьев. Братьев у нее было трое. Дверные ручки их комнат отполировали многочисленные касания рук. У Даны эти комнаты всегда ассоциировались с секретной комнатой Синей Бороды — заманчивы, загадочны и запретны.
На кухне царил беспорядок. На подоконнике стояла миска с водой, поверхность которой покрылась ледком. В камине едва теплился огонь, но посмотреть на него было приятно — по контрасту с сероватыми стенами, насквозь промороженным дощатым полом, укрытым тонким тканым паласом.
Дверь распахнулась, и с улицы на кухню вошел отец Даны. Раскрасневшийся, в отделанной мехом куртке. Он нес в руках дрова.
— Привет, — безо всяких эмоций произнесла Дана.
— Еще немного — и станет совсем тепло, — весело сказал отец, складывая дрова в камин. Он щёлкнул зажигалкой, и дрова слабо загорелись. Дана стояла за ним, остановившимся взглядом смотрела в огонь. От отца слегка пахло алкоголем и снегом.
Он обернулся, потрепал ее по голове, завел какую-то веселую речь, бессмысленную, якобы ободряющую. Он делал так постоянно, чувствуя себя виноватым. У них опять нет денег. У них опять нет дров. У них опять нечем платить за дом и за отопление. У них опять нечего есть. Они опять поссорились с соседями. А у их сыновей неприятности в школе и на работе.
— Вот ты, Дана, как наша младшая, единственная дочка, должна стараться, потому что мы с матерью...
Ее мать не работала, зимой она латала многочисленные дыры в доме и читала газеты. Она заделывала дыру в полу ванной, а потом прибивала плинтус в зале. Потом красила потолок на кухне, а плинтус в зале прогрызали мыши. А чердак опять заносило снегом, потому что в крыше была дыра. Но мать туда не ходила, потому что боялась. И все знали почему, и никто туда не ходил.
Хотя Дане порой казалось, что она уже почти не верит в семейную легенду.
Дана вышла из кухни. Отец договаривал речь сам себе. Дана знала, то будет: сейчас он разденется, возьмет новую газету, сядет, нальет чая — прозрачного, желтого, как сок, зато кипятка, будет читать и пить чай. Когда чай кончится, он начнет читать рекламные объявления газете. А потом, когда они кончатся, пойдет гулять по дому — советовать матери, как прибить плинтус, потом зайдет к Дане, узнать, как дела. Заходя к ней, отец не придумывал предлогов. Он просто говорил, что соскучился, а это было правдой — был выходной, и отец не мог придумать себе занятия. На буднях он торчал в офисе в городе. Но теперь, когда начались рождественские каникулы, Дана немного опасалась за отца — на него было жалко смотреть во время выходных.
Дана сидела в Зале, глядя на главный камин и думая о том, что, вероятно, ее братья сейчас там, где тепло, отдыхают со своими друзьями. Треск камина заглушал шуршание под полом — там привычно копошились мыши. Дане уже два дня просто хотелось согреться. В школе было немного теплее, и он почти пожалела о том, что учеба начнется так нескоро.
Дана радовалась, что братья далеко. Она помнила то время, когда они оказывались дома чаще, и был ад, потому что она не проводила и минуты одной. Братья заботились о ней, ее по-своему любили.
Дана мечтала о том, чтобы ее родители на сутки уехали из дома. Это была ее мечта — она одна дома, совсем-совсем одна. Не родителей, ни братьев. Такое случалось лишь один раз — когда летом она заболела и не поехала вместе со всем семейством в гости к родственникам. Она была целый день одна, бродила из комнаты в комнату, часы просидела в библиотеке. Но они вернулись слишком рано — волновались, что ей будет одиноко и скучно. Они вернулись, и сразу стало и одиноко, и скучно.
— Дана, через двадцать минут обед, — проходя мимо с инструментами в руках, объявила мать. Она была полной, румяной. Как будто не было холодно. Как будто от еды ломились погреба и буфеты. Дана покосилась на нее.
— Ты бы пошла, занялась делом. В комнате убралась. Предложила свою помощь.
У Даны не было не сил, ни желания отвечать. Она встала, опираясь о каминную полку. Кончик повязанного шарфа занялся огнем. Дана привычным жестом выдернула его, резко сунула ледяные пальцы в рот, смачивая их, и сжала пламенеющую шерсть. Многие вещи семейства были обожжены — в холода большую часть времени приходилось проводить у каминов, уличных костров, которые так любили ее братья. Они устраивали их зимой постоянно, приезжая на каникулы, на выходные, устраивали их и летом. Они волокли на улицу все, что хорошо горело — газеты и журналы, не спрашивая разрешения и у их хозяев. Несколько раз они устраивали ревизию ящиков Даны и сжигали ее тетради, альбомные листы и черновики, пытаясь согреть сестру. Они действительно любили ее, только очень по-своему.
На обед мать приготовила суп с тушенкой и какими-то зеленоватыми полосками, вроде лука. Он был горячим, и Дана ела, не чувствуя вкуса. Напротив — мать. Слева — отец. Как и десять лет назад, когда Дана была совсем маленькой.
Ветер бил по подоконнику, ветер крутил снежные облака. Ветер жил без ритма, вне обыденности и связи. Он холодный. Он неприятный, острый, он делает больно, режет снегом, отвешивает ледяные пощечины — но никогда не узнать, когда по какой щеке; когда тронет ласково, а когда еле ощутимое касание воздуха обожжет легкие так, что минуту вздохнуть не сможешь.