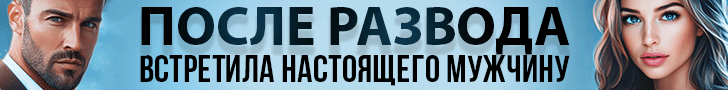Крик (*)
Крик (*)
(*) Какой-то идиот сказал мне, что если я навещу могилу дочери, она перестанет плакать и кричать каждую ночь.
Какой-то идиот сказал мне это с полной уверенностью, и я оказался так глуп и слеп, что поверил ему. Впрочем, наверное, я спятил и отчаялся. Любой бы спятил.
–Она снова…– Дженни не спит третью ночь подряд. Она похожа на безумную, её глаза опухли от слёз и красны от бессонницы. Ей паршиво, и мне не лучше. Я знаю, что «она снова», но я должен сохранять рассудок. – Она снова, Стив!
Я знаю. Но кто-то из нас должен быть разумен.
–Тебе приснился кошмар, Джен, – я кладу руку на её плечо, какой-то дурацкий и нелепый трюк из прошлой, нереально далёкой и сказочной жизни. Жизни, в которой мы мечтали о поездке по штату, и в которой нас было трое. Теперь нас лишь двое и мы стоим на грани с безумием.
Она сбрасывает мою руку. Я её раздражаю. Она не может на меня смотреть – её взгляд всегда направлен куда-то за меня, она не может меня касаться и ей противно когда я её касаюсь. Хвала Господу, мы с ней совпали и в этом. Я тоже не могу её касаться. Она мне противна. Её кожа стала какой-то липкой, и меня не покидает соблазнительно-тошнотворный образ: я беру овощечистку и провожу её лезвием по её коже. Кожа падает – липкая, чужая, а Дженни остаётся.
Отворачиваюсь, отхожу, наливаю себе воды. Меня подташнивает. Это со мной теперь часто. С того дня, как мы узнали о смерти нашей Элис меня тошнит часто. Сначала мы были в прострации – не ели, не пили, не понимали. Даже не плакали – смотрели друг на друга и не понимали. Потом я пил виски. Снова тошнота.
Потом я проснулся ночью от резкого запаха гнили. Гниль всегда отдаёт чем-то мерзотно-сладким. Я заметил это давно и едва не задохнулся в ночи. Я с трудом тогда открыл окно, чтобы вдохнуть холодного воздуха, с трудом покорил себе прежде всегда послушное тело.
Это было в тот день, когда мы похоронили нашу Элис.
А на следующую ночь начались крики. Крики и плач. Сначала я убеждал себя в том, что это Дженни кричит и плачет и не хотел идти к ней. Я сам закусывал до боли костяшки пальцев, чтобы не разрыдаться в глухую, пропахшую сладкой гнилью ночь. Но я должен был сохранять рассудок, и я вышел в коридор…
Дженни встретила меня в гостиной. Она не спала и не рыдала. Она слушала, склонив голову.
Слушала крик и плач, которого не могло быть в нашем доме. Наш дом затих, он умер вместе с Элис и вместе с нею же был похоронен, так кто же?..
В комнатах было пусто. Свет и полный осмотр дома успеха не принесли. Казалось, плакали стены, плач доносился и сверху, и снизу, и слева, и справа. Иногда он сменялся глухим стоном. Иногда – криком. Криком боли.
–Мы спятили, – сказала тогда Дженни и посмотрела на меня с отвращением. – Мы спятили.
Я не возразил ей. А потом какой-то идиот, которого я даже не спрашивал, подвалил ко мне на выходе из церкви, куда мы пошли по требованию каких-то правил, которые публично, на похоронах озвучила Дженни, и сказал, что я должен навестить могилу дочери.
Я послал его, но идиот не обиделся и исчез из моей жизни. И тогда я пошёл на её могилу. Свежая могила с первыми ростками беспощадной травы.
Яркой травы, которую Элис больше не увидит.
–Это она, она снова…– Дженни раскачивается взад-вперёд в кресле и смотрит мимо меня. Я хочу ей крикнуть, что она сумасшедшая и ей всё чудится, но безумие не бывает одинаковым для двоих, а я ведь тоже слышу Элис…
Свою двенадцатилетнюю дочь, которая уже, должно быть, разложилась в земле. Свою малышку, которая не будет нервничать перед экзаменами, не пойдёт на выпускной, не влюбится, не засмеётся…
Свою малышку, которая плачет после своей смерти в моём доме. Каждую ночь.
–Это сон, – я лгу без особой надежды на то, что Дженни поверит. Откровенно говоря, я и не хочу, чтобы она верила, ведь если это произойдёт, тогда в безумстве останусь я. Нет, я не могу. Я должен сохранять рассудок. Кто-то из нас должен.
–Ты тоже это слышал, Стив! – Дженни не смотрит на меня даже сейчас, когда злится. И хорошо – я ненавижу её взгляд, ставший таким пустым. Он неживой. Он тусклый.
Меня воротит от него и от её лица.
–Я не знаю что слышал, – я лгу опять, это становится моей привычкой.
Мы не говорим, мы совсем не говорим с нею и меня это устраивает. Я люблю тишину, теперь люблю. Говорят, что смерть – это тишина и если моя Элис мертва, значит, она в тишине. И я тоже буду.
По возможности.
–Ненавижу тебя! – Дженни встаёт резко, слишком резко, её качает, но я не иду к ней на помощь, я не придерживаю её под локоть. Даже если она сейчас упадёт и разобьёт об пол колени или нос, я не приду к ней на помощь.
Она это знает и справляется сама. Идёт прочь, лишь у дверей наших давно разделённых спален, останавливается и говорит, опять на меня не глядя:
–Я всё думаю, а почему она плачет? Ей там темно? Ей там страшно? Или ей там горько? Горько от того, что она одна?
Она хочет добавить ещё что-то, но не решается. И правильно – за все годы нашего брака Дженни всё-таки пришлось научиться молчать. Её слово ничто. Теперь уже всё ничто, когда нет моей Элис.
Отредактировано: 18.12.2023