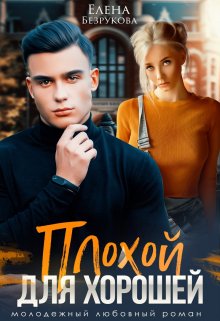Кто по тебе заплачет?
Кто по тебе заплачет?
Те, кто расплатился за чужую подлость,
Уходил под пули прямо, не сутулясь,
Превращаясь в слезы,
Превращаясь в гордость,
В синие таблички деревенских улиц...
Игорь Растеряев
Денис вырос в деревне километрах в пяти от города. Отец его сгинул где-то так давно, что люди и не помнили, мать, Тамарка, работала на железной дороге и держала корову. Баба она была справная, здоровая, но не очень-то чистая, так что некоторые из стрелочниц и осмотрщиц, трудившиеся на станции, даже отказывались брать у нее молоко, когда та предлагала. «Не надо твоего молока, Тамара», - за глаза говорили они, в лицо сказать такое, конечно, никто бы не осмелился.
Впрочем, денег хватало. Жили они неплохо. На железной дороге платили хорошо да и опять-таки, хозяйство. Корова, свинья, куры, огород... Голодными не были.
Денис рос единственным сыном. Рожать больше Тамара не стала, уж больно время было неспокойное. Ходил он в обычную городскую школу, пешком, редко когда подвезет кто. Примерным учеником не был, так что даже учительница домой ходила, проверять, в каких условиях живет мальчишка. Видимо, осмотр оказался удовлетворительным, потому что визит тот оказался единственным. После школы поступил в сельскохозяйственный техникум.
Но не закончил... Его забрали в армию. Шла Чеченская война. Вторая. Отслужил год. И прислали домой в цинковом гробу, так что мать и увидеть сына не смогла...
Помочь со стряпней на похороны Тамара созвала баб с работы. Те привели и своих дочек, сестер... Хоронили всем миром. Да и правда: вся деревня пришла попрощаться с Денисом, военные, офицеры... Надо ведь было что-то поставить на стол. Пожилой майор принялся целовать руки одной из стряпух, осмотрщице Валентине: «Спасибо за сына». «Я не мать, не мать, - стесняясь, уклонялась она. - Мать там».
Мать суетилась, командовала на кухне, пыталась руководить. Не плакала. Ее вроде как обкололи чем-то таким, успокоительным, чтоб без нервов. И казалась она железной, да что там, железобетонной, словно непробиваемой. Ни слезинки, ни причитания. Только работа, только расчет. Словно и не сына хоронила.
Потом, после похорон, когда за сына должны были выплатить большие деньги, она будет хвастаться: «Я теперь миллионерша». А робкая, маленькая Валентина покачает головой: «Это кровавые деньги, Тамара. Их нельзя брать. Да и зачем они тебе теперь...»
Тамара, сама словно не знающая ответа на этот вопрос, через некоторое время найдется: «А я дом построю». Зачем, для кого... Просто, наверное, есть у деревенского человека такая мечта - дом. Вроде как есть, значит, больше ничего и не надо. А если уже стоит? Да хоть десять. Своя ноша не тянет.
Впрочем, может быть, это был просто шок, невозможность осознать, в полной мере понять случившееся. Да и сына в гробу она ведь не видела. Видела гроб - а сына нет. Но Тамару осуждали - мать так вести себя не должна.
Да и за жадность обиделись. «Мы ей столько наготовили, а она хоть бы салатов с собой дала, - говорила Валентина. - Нет, только Галке банку «оливье» наложила, у той трое. А мы что?» Но вслух опять же попросить не смогли, постеснялись.
«Кровавые деньги» не принесли Тамаре счастья. Дом она построила, но долго в нем не жила. Всего-то через три года упокоилась на кладбище рядом с Денисом, не выдержало ее не умевшее горевать сердце.
Но хоть мать и не лила слез на похоронах, ушел Денис не совсем неоплаканный. По-деревенски причитали старухи: «И на кого ж ты нас оставиииил, закатился наш месяц яяясный....»
И рыдала за домом Ольга, его единственная, почти сорокалетняя любовница. Не успел сойтись Денис со своей сверстницей, молодой девушкой, брезговали они им, и единственной его женщиной стала еще крепкая, красивая разведенная баба. Нет, не рыдала она, выла, понимая, что больше никогда, никогда, никогда его не обнимет. Убивалась, не в силах принять его смерть, такого молодого, горячего, которому бы жить да жить... И может быть, она была единственной, кто так крепко его любил.