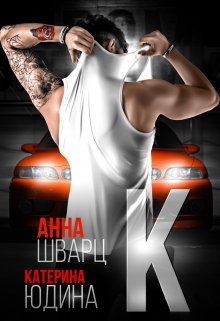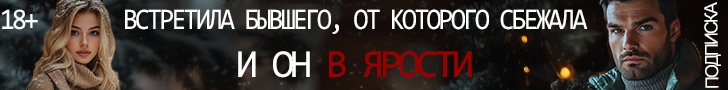Лунная кровь
Лунная кровь
- Снегопады прошли, всё занесло, не пробиться. Придётся оставить машину у поворота, иначе надо будет сдавать задним ходом метров сорок от самых ворот...
Он отключил мобильный, положил его в футляр. Щёлкнула кнопка замка.
- В карман.
Он положил футляр в карман – так надёжней. В прошлый раз, когда он закрепил мобильный на поясе, телефон потерялся, нырнул в глубокий сугроб. Пришлось сломать ветку рябины, что по счастью росла метрах в трёх от дороги, и, орудуя веткой как щупом, выискивать пропавший телефон.
По счастью, тогда его удалось найти. Снежный ком, контакты замкнуло. Пришлось менять аккумулятор.
- А как же без связи? Отсюда километров восемьдесят до Москвы.
И – километров десять до ближайшего телефона.
Дом на отшибе. Эти десять километром – как раз до ближайшей деревни. До неё – узкая, и летом едва проезжая, а теперь уже занесённая снегом, засыпанная метелью вровень с окружающими её бескрайними полями поселковая, полузаброшенная дорога.
Туман – ослабели морозы, белая, искристая, колкая взвесь стоит в воздухе, снежный порошок хрустит на зубах. Кислит, сводит язык – тёртая в холодную пудру зима.
Он вышел из машины. Хлопнул дверью.
- Я – Караваев Михаил Петрович.
«У-у-у» ответила ему вьюга.
И плеснула снегом в глаза.
- Гадство!
Он зажмурился – слёзы стекли по щекам. От холодного ветра (по контрасту с тёплым, прогревшимся, жаром наполнившимся за долгий путь воздухом в салоне машины), от зимней обиды, от холодной каши в ботинках.
Дом достался в наследство. Три года назад.
«Да продай ты его!»
Это Ленка ему говорила. Она сразу невзлюбила этот дом.
«Далеко от дороги. Места глухие. Случись что... Нет, не дай бог! Но если что и впрямь случится – так не то, что до больницы – до аптеки не доберёшься. И зачем тебе это надо? Денег сколько надо вложить: водопровода нормального нет, разве только какой-то колодец заброшенный, который ещё чистить и чистить надо. Дом покосился, щели сплошные».
- У меня печка есть! – гордо сказал Михаил.
Ветер затих на минуту.
«Дура ты, Ленка» подумал Михаил. «Много денег за такой дом дадут? А так – память...»
Отец перед смертью много и тяжело болел. Но в город переселяться упорно не хотел.
«А, может, и правильно?»
Городская квартира отца (что тоже досталась Михаилу в наследство... хотя её и пытался отобрать младший брат отца, дядя Виктор, ссылаясь на какое-то старое, никем ещё, кроме него одного, не виданное завещание... да не получилось, отчего дядя Виктор обиделся и вот уже полтора года не звонил и никаких весточек не посылал... пропал в своей Самаре без следа) – недалеко от «Бауманской». Старый, забитый машинами, загазованный район Москвы. Много людей, очень много людей. Узкие улицы, густо оплетённые трамвайными рельсами, по который с утра и до самой глубокой ночи проносятся грохочущие и звенящие жёлто-красные, сине-белые и ещё бог знает в какие цвета раскрашенные тяжёлые, медленно раскачивающиеся на рельсовых стыках вагоны.
Вагоны – проносятся, идут люди, проезжают машины, гомон, крики, металл, звон.
Тяжело, должно быть, умирать в таком районе. Тяжело умирать в городе, в июльскую жару.
«А что, зимой было бы легче?»
Михаил потёр виски.
Ну, к чему, к чему сейчас это? Проклятые воспоминания, проклятая память!
Отец умер три года назад... Нет, уже больше трёх лет. Он умер летом, в середине июля. Была страшная, невыносимая жара.
Он не хотел переезжать в город. Он умер здесь, в этот дальнем, заброшенном домике.
Отец сам присмотрел этот дом. Давно. Много, много лет назад.
Господи, когда же это было? Тогда Михаил... Нет, ещё Миша – был подростком. И до встречи с Ленкой оставалось лет десять. А до рождения Татьянки...
«Седая древность!»
Он покачал головой.
Нажал на кнопку брелка – «Тойота» коротко пискнула и мигнула фарами.
- Жди! – строго сказал Михаил и решительно двинулся вперёд, расталкивая, распихивая ногами сугробы.
Нет другого выхода – машину придётся оставить на повороте, на небольшой, по счастью не заваленной снегом площадке у самого съезда с дороги.
Ближе не подъехать.
«Тогда ещё мать была жива...»
Как же избавиться от этих воспоминаний?
Или лучше не избавляться?
В конце концов, о чём ещё думать?
Сейчас он доберётся до дома. Откроет дверь (там небольшой козырёк над входом, защита от ветра и наледей, так что дверь не должна вмёрзнуть в дверной косяк), зайдёт в дом...
Тёмный, холодный, промёрзший дом.
Отдохнёт немного. Минут десять, не больше.
Потом пойдёт к сараю. Снимет брезент с поленницы, что с осени сложил он под навесом. Будет носить в дом поленья, тяжёлые поленья. Достанет ящик с инструментами. Топориком-колуном наколет лучинок, щепок – на растопку. Найдёт газету, что сложена в старом картонном ящике. Ящике, что задвинут был под лестницу.
«Лестница – на второй этаж...»
Два этажа в доме. И чердак...
«Не маленький дом, не маленький...»
Сложит газету, засунет её в печь. Сверху – домиком щепки, выше – поленья потоньше, потом – потолще. И на растопку – верхом средних размеров бревно.
Хорошо будет гореть, хорошо.
Бумага газетная сухая, заботливо с осени сбережённая.
Чиркнет спичкой, запрыгает весёлый огонёк.
Протопится печка, жар пойдёт по дому. Часа три-четыре, не больше. И в доме станет тепло, можно будет даже снять свитер.
А на втором этаже – поставить обогреватель. Там, конечно, и четырёх часов не хватит.
Но ничего, ничего. В первую ночь спать будет холодно. А завтра...
Пока дом будет прогреваться – будет время расчистить проезд к дому. Ну, если не проезд (без трактора не обойдёшься), так хотя бы проход.
А завтра...
Взять лопату в сарае. Деревянную лопату. Как раз для таких снегов.
И расчистить тропинку.
А завтра он поедет в город.
И привезёт Лену и Танечку.
Подарки, шампанское, ёлка – растёт прямо перед домом.
Завтра – тридцатое.
Есть телевизор, как раз для дачи. Небольшой, экран в четырнадцать дюймов. Не забыть бы его привезти. Ленка не может без этих дурацких песен... Каждый год одно и то же, а она – не может.
Торт, конфетти, фейерверк (Танька пищать будет от восторга!).
И второго – обратно.
«Хватило бы дров».
Дрова он готовил в октябре.
По счастью, октябрь был сухой, почти без дождей.
Калитка наполовину ушла в сугроб.
Ногами разбросать наметённый декабрьскими ветрами высокий белый холм, холм слежавшегося снега.
Потянуть калитку на себя.
«Чёрт, не поддаётся!»
Вмёрзла, намертво вмёрзла в землю.
Осенью (кажется, в самом начале ноября, во время последних, самых коротких и самых холодных, наполовину разбавленных уже ледяной кашей, дождей) натекла в ложбинку под калиткой вода, переполнившаяся лужа замёрзла на первом морозе – и схватила железную дугу, нижний край дверцы.
«Лом нужен... Иначе не отбить. И ладно, потом займусь. Сейчас главное – в дом попасть».
Он схватился за край закачавшегося забора, вдохнул глубоко, досчитал до трёх – и резким прыжком перемахнул через ограждение, повалившись в глубокий снег.
Закашлялся, зафыркал моржом...
Мать ещё была жива. Тогда тоже было лето, но вот какой именно месяц... Быть может, всё тот же июль. Или, кажется, уже август. Он ещё учился в школе.
Ездили смотреть дом. Матери, помнится, тоже не слишком понравилось дальнее это место.
«На отшибе» сказала она. «И от автобуса далеко. Добираться тяжело».
«Машину купим» ответил отец.
И купил дом. Машину так и не купил.
Мать не слишком охотно ездила с ним. Разве что потом, когда уже вышла на пенсию, неделями жила в этом доме.
Отец было семьдесят, когда и он вышел на пенсию и тоже переселился в этот дом.
Мать иногда выезжала в город.
Отец – никогда. Он переселился решительно и оборвал все связи с городом. Деревенский по рождению, к городу он так и не привык и не смог его полюбить.
Мать – житель городской. И умирать она поехала в больницу.
Почки. Болела тяжело, но ушла легко и тихо. Во сне.
Отец пережил её на два года.
Он никуда не уезжал. За несколько недель до смерти практически перестал выходить из дома.
Сидел у окна, неподвижно, только изредка тёр ладонью стекло, будто убирая какую-то лишь ему одному видимую пыль.
И вздыхал.
«Миша, ты меня не бросай...»
«Работа же. Как положено – пять дней в неделю. И Ленка со всякими делами... Вот машину стиральную ей теперь надо устанавливать. А когда? Только в субботу остаётся. Так что извини... Я вот апельсины привёз. Не растут у нас апельсины?»
«Абрикосы должны вырасти. Я прошлой осенью абрикосы посадил. Особый сорт – подмосковные. Цветут, говорят, красиво. Видел, как абрикосы по весне цветут?»
«Нет».
«Вот весной почаще приезжай. Посмотришь. Клумбу будем делать?»
«Обязательно. Я луковицы привезу. Знаешь, цветы всякие... Вот, я по справочнику смотрел...»
Клумбу сделать не успели. И сейчас всё руки не доходят...
Он протёр глаза от налипшего снега. Встал. Обмахнул перчаткой брюки, похлопал по куртке.
Вылитый снеговик. Куда шапка упала?
Талая вода с волос противным, знобящим, тонким ручейком потекла за шиворот.
До мурашек, до дрожи!
«Шапка...»
Здесь, в сугробе.
Ветер задул, льдинки в глаза.
А тогда было жарко.
Он пропустил выходные.
Когда умер отец? На той неделе, или раньше?
На жаре труп раздулся, пошёл зелёными пятнами. Пузырём вспучился живот.
Жирные мухи ползали по кусочкам сухариков на кухонном столе, по белым крошкам.
Глаза были открыты. Отец смотрел в окно.
Он не дождался приезда сына. Сколько он ждал? Сколько он был жив?
Он сидел ровно.
Вот только голова была запрокинута на бок. Глаза потемнели и готовы были вытечь.
Запах – тяжёлый, сладкий до приторности, липкий. Тошнотворный запах гниющей плоти пропитал дом.
«Да я не буду здесь жить!» кричала Ленка.
А Таня плакала.
Он вызвал врачей – они отказались ехать.
Участковый милиционер, правда, к вечеру добрался. Написал справку...
Вдвоём они завернули труп в большой кусок полиэтиленовой плёнки, что приготовил отец когда-то для теплицы...
Да вот же она, шапка!
Надо только хорошенько её отряхнуть. Ещё не хватало – голову вымочить. В доме сразу не обсохнешь, так что и простуду подхватить – пара пустяков.
А это ни к чему, ни к чему.
...дотащили тело да машины. Да, вот до этой самой «Тойоты», что стоит теперь грустная, брошенная у края дороги, моргает красным огоньком сигнализации.
Сначала он включил кондиционер.
«До района подбросить?»
Участковый не решился ехать в машине, враз превратившейся в катафалк.
«Да ладно...» пробормотал он и поёжился, словно от неведомо откуда налетевшего холода. «Сам доберусь...»
Похороны были через два дня. Живот всё-таки лопнул. В морге. Санитары отмывали носилки от чёрной, зловонной жижи и ругались нехорошими словами.
Он проветривал дом. Два дня держал открытыми все окна. Не закрывал даже на ночь. Благо – лето.
Ленка выбросила всю посуду. Мыла стены и пол раствором хлорки.
Таню привезли только на следующее лето. Мебель к тому времени успели заменить. А посуду Ленка привезла одноразовую – пластиковые стаканчики. Тарелки. Гнущиеся, а при нажатии – и ломающиеся пластиковые ножи и вилки.
«А где тут посуду мыть? Водопровода нормального нет!» говорила она.
Колодезную воду она не признавала. Разве что для полива огорода.
«Здесь артезианская скважина нужна!»
«А ты знаешь, сколько это стоит?»
Дерево двери разбухло, дверь не поддавалась.
Он взялся крепче за дверную ручку, упёрся ногами в порог – и резко рванул на себя.
Дверь со скрежетом подалась, распахнулась – он еле удержал равновесие на скользком крыльце.
Из темноты дома пахнуло затхлым, застоявшимся воздухом. На миг ему показалось, будто потянуло древесной гнилью.
«Нет, нет! Не может быть! Я же с осени всё промазал, прокрасил. Олифа, антисептик... Нет, показалось...»
Он переступил через порог. И минуту держал дверь открытой («чего боятся? всё равно дом промёрз»), чтобы ушёл, улетучился этот запах тлена.
«Будто в гробу...» отчего-то мелькнула у него шальная, гадкая мысль.
«Заткнись!» оборвал он сам себя. «Ничего себе, настроение новогоднее! Проветрить, подмести, протопить. И нечего тут!..»
Что именно «тут» - он и сам не мог до конца понять.
Только нехорошо было на душе. И воспоминания, прилипчивые, гадкие, неотступные, изводящие, терзающие душу воспоминания – к чему проснулись, к чему пришли они так невовремя?
«Они всегда невовремя».
Почему пришли они именно сейчас?
Разве что... дом вызывает их? Дом приманивает их?
Дом пробуждает эту чёртову, эту проклятую, эту живучую память?
Темнота...
Он щёлкнул тумблером на электрощитке. И повернул ручку выключателя.
В коридоре загорелся свет.
После зимнего сумрака огонь лампы в шестьдесят свечей (что казался обычно тусклым и бледным) вспыхнул ярко, ослепительно ярко – так что слёзы брызнули из глаз.
«Ну и дурак!» Михаил отвернулся и зажмурился. «Чего уставился на лампу?»
Кажется, воздух в дома стал свежее.
Михаил закрыл дверь. И затопал, стряхивая с ботинок снег.
- Да, уже жарко. Ты знаешь, сколько мне пришлось эти дрова таскать? Часа два, не меньше. Помнишь, я бревно пилил? Такое здоровое, метра полтора в длину. Тогда ещё пилу привёз, итальянскую. Ну ты помнишь, электрическую. Мы провод от самой розетки тянули, на улицу – с удлинителем метров пять получилось. Вот это самое бревно распиливать. Так я и его приволок, топориком – тюк, тюк... Ленк, представляешь – не берёт. Не берёт его топор! Бревно – как камень, даже щепки от него не отлетают. Так я его в коридоре бросил, у самой двери. Пусть оттаивает. С него, вроде. Лужа небольшая натекла – так я убрал. Зато в остальном – красота! Деревья все в снегу, там фонари у дороги – свет сюда с трудом, но доходит. И я ещё фонарь на крыльце включил. Не сад – новогодняя сказка! Всё искрится, переливается! Выйдешь на крыльцо – и везде огоньки разноцветные. Красота! Я полчаса стоял, промёрз весь, а уходить не хотелось. И ёлки у садовой дорожки – нарядные, лапы под ветром покачиваются. Прямо смотрел бы и смотрел. В городе... Да, ладно, заканчиваю. Когда у Танюсика утренник завтра заканчивается? В одиннадцать? Хорошо, понял. А потом? Подарки, песни... Ну да, как я и предполагал. Ну, ладно, это ещё полчаса. Потом домой, собираться... Ты сразу заберёшь? А собрания там всякие... Нет? Ну и здорово! Значит, вам собраться спокойно... В общем, я всё подготовлю. И в половине второго за вами заеду. Как это «времени мало»? Нет, лапуль, позже нельзя. Никак нельзя! Точно тебе говорю – дорога плохая, наледи, заносы. Темнеет... Знаешь, как рано темнеет? Ну вот, а ты говоришь – «позже». Никак нельзя позже, лапа, ну никак нельзя. Да, телевизор захвачу. Обязательно! И заеду... Запомнила, когда? Когда... Нет, не в два! Не в два! В половине второго! В половине... Запомнила? Точно? Правда? Ну, хорошо.... Говорю, что это очень хорошо! Всё, лапуля, всё. Поздно уже. И аккумулятор садится... У телефона. Что? Говорю, что у телефона садится аккумулятор. И надо спать. Поставить телефон на зарядку и спать. Мне вставать рано. И я устал сегодня. Топил печку, таскал дрова, дорожку расчищал от снега. Знаешь, сколько его здесь? Говорил уже? Ну вот, чистую правду сказал. Очень много снега. Весь вспотел. Рубашка солёная, насквозь потом пропиталась. Устал... Да, спать. Пойду спать. И тебе тоже. Спокойной ночи! И кисуле тоже. Самой маленькой и любимой папиной кисуле – спокойной ночи! Да, завтра позвоню. С самого утра. Как отъезжать буду – сразу позвоню. И никаких... Хорошо... Хорошо... Да, спать. Ну, пока!
Он нажал на кнопку разъединения. Посмотрел на экран мобильного. Изображение батарейки – прозрачное.
«Ещё минут на пять разговора» подумал он.
И ещё вспомнил, что розеток в доме – от силы три. Или четыре... Нет, три. И все – на первом этаже. А спальня – на втором.
Так что, если поставить на заряд...
«Да и чёрт с ним!»
И в самом деле, кому придёт в голову ночью звонить?
«А будильник?»
И правда, он не взял с собой будильник. Понадеялся на мобильный.
«Ничего! Кажется, есть ещё в часах».
Он снял часы. Нажал на кнопку установки будильника. Выставил на минуту вперёд. Дождался сигнала. Сигнал оказался тонким и противным, как писк комара. Но, кажется, вполне подходящим для того, чтобы разбудить не слишком крепко спящего.
«Положу рядом с подушкой. И, если в одеяло не закутываться... Впрочем, какое там одеяло? Дом до конца не прогрелся, наледи на окнах не оттаяли. Надо в кладовке найти тулуп, бросить на постель. И залезть под него... Овчина – хорошо. Тепло...»
Лампа в коридоре мигнула коротко, отрывисто.
«Что это?»
Свет её как будто потускнел. И в мутной желтизне его появился какой-то странный, коричневатый оттенок. Или даже – красноватый?
Михаил встал с дивана. Вышел в коридор. Посмотрел на лампу...
Она снова мигнула. На этот раз плавно – будто кто-то захотел нажать на скрытый, где-то на улице спрятанный выключатель («да это невозможно! я же сам проводку делал!»), и даже нажал на мгновение, но отчего-то передумал. И оставил свет включённым.
«Этого ещё не хватало! Ветер провода раскачивает? Где-то контакт отходит?»
Михаил из ящика с инструментами достал фонарь, мигнул пару раз для проверки, направив луч в самый тёмный угол («нет не сели батарейки, по счастью!»), набросил куртку и, повернув щеколду, открыл входную дверь.
Дверь отворилась медленно (хоть для верности пришлось её слегка подтолкнуть плечом), нехотя, с тоскливым скрипом, который в ночной тишине показался оглушительно громким.
И в плывущем свете качающегося под ветром фонаря показалось Михаилу, будто какая-то странная, угловатая, размытая тень метнулась за угол дома, словно и не перепрыгнув даже, а перелетев через высокий сугроб; перелетев неслышно, невесомо, на долю мгновения зависнув в воздухе.
И беззвучный полупрыжок-полуполёт смутно видимой, быть может, лишь только почудившейся этой тени был настолько стремителен, отточено, хищно резок, что Михаил невольно отшатнулся назад, схватился за ручку двери и лишь с трудом удержался от вскрика.
И минуту ещё Михаил собирался с духом, чтобы снова выйти на крыльцо.
Вспомнив через минуту, что забыл выключить фонарик. Разрядится...
«А, может, занавески откинуть, окно открыть и...» мелькнула у него мысль осторожная почти до малодушия.
Фонарик выключил и положил осторожно (не греметь, что ли?) на пол.
«Ну, вот ещё!» пристыдил он сам себя. «Что за глупость? Чего боятся? Кто там может быть? До посёлка расстояние большое, алкашам да бомжам здесь делать нечего – они дачи грабят, а сюда им добраться трудно. Конечно, мог быть какой-то бродяга... Да и чёрт с ним! Пошуметь можно, прикрикнуть на него... Или...»
Михаил снова достал ящик с инструментами (тяжёлый, безразмерный, сбитый из толстых, суковатых досок – инструменты собирать начал ещё отец... так и достался ящик – в наследство).
Покопался, выискивая... ну и грохот! Нашёл – топорик. Туристический, стальной, с прочной ручкой в резиновой оплётке, с остро отточенным лезвием, пока ещё скрытым серым чехлом из искусственной кожи.
Михаил улыбнулся самодовольно (отчасти, с облегчением – оружие!) и, словно примериваясь к весу, пару раз подбросил топорик в воздух, оба раза довольно ловко его поймав.
Снял чехол с лезвия. Снова включил фонарик и, теперь уже быстро и решительно, вышел на крыльцо.
Тишина. Спокойствие. Даже ветер стих, свет от крыльца шёл ровно и гладко, жёлтые круги-отсветы неподвижно лежали на снегу.
Ни следов, ни движений. Тени заняли своё место, тени строго держались своих мест – ни одна не покидала своих пределов. Тени спали, спали крепко.
«Чушь» решил Дмитрий. «Показалось... Ветер, ветка дёрнулась, или просто фантазия у меня разыгралась. Мало ли что? Чепуха!»
Он направил луч фонаря на серебром блеснувшие провода. Повёл лучом от дома до столба у дороги.
Провода, хоть и провисли немного, однако были совершенно целы. Без обрывов, без перехлёстов. И не настолько уж провисли, чтобы бояться замыканий.
«Ну, если и есть где обрыв – так явно не у меня» решил Михаил и погасил фонарик. «Не по всей же трассе мне идти? В конце концов, если будет обрыв – вернусь в город. Время ещё есть...»
Он попрыгал на крыльце, пытаясь согреть онемевшие от мороза ноги, и погрозил ночи кулаком:
- А ну, кто здесь?
Он взмахнул коротко и грозно блеснувшим с руках топориком и, то ли дурачась, то ли успокаивая себя (так и не вполне отошедшего от недавнего испуга), зверино зарычал.
- Выходи, если кто здесь спрятался! Я тут хозяин! А вот топориком кого?!
Откуда-то издалека долетел стихающий собачий лай. Еле слышный, не лай даже – слабое эхо его.
И всё. Больше не было никаких звуков.
Михаил постоял на крыльце ещё минуты две, словно дожидаясь ответа.
Не дождался. Развернулся, вошёл в дом.
И, уже закрывая дверь, услышал, как где-то рядом, близко, как будто даже у калитки, тихонько скрипнул снег.
От осторожного шага. Ветер так не шумит.
Михаил быстро захлопнул дверь и задвинул щеколду.
И топорик засунул за пояс.
«Всё, хватит!»
Он зашёл в комнату, подошёл к окну. Встал боком, отодвинул слегка занавеску. Сквозь голубой отсвет намёрзшего инея фонарный свет с улицы едва проходил. Так что едва ли можно было что-нибудь рассмотреть.
«А не глупость ли я делаю, что семью сюда тащу?» подумал Михаил.
Он долго стоял в полной неподвижности, почти не дыша, прислушиваясь к звукам, долетавшим снаружи.
Но – только изредка поскрипывали под морозом деревья, да шелестел сметаемый проснувшимся ветром с крыльца снег.
Больше ничего.
«Фантазия разыгралась» решил Михаил. «Я мог, конечно, погорячиться со встречей Нового года в этом доме. Не приспособлен он пока... Хотя, что сейчас, на ночь глядя, голову себе забивать? Завтра проснусь, ещё раз всё обдумаю – и решу. На свежую, так сказать, голову... Если она у меня будет свежей после ночёвки в таком холоде...»
Михаил, демонстративно весело (кому, впрочем, демонстрировать? себе, что ли?) насвистывая самую легкомысленную из известных ему песен (какую – теперь уже трудно установить... много он знал легкомысленных...) заходил по комнате, иногда притопывая песне в такт.
Потом накидал в печку заранее напиленных дров. Помешал угли кочергой, чтобы жарче было пламя, чтобы скорее огнём схватились дрова. С минуту смотрел на прыгающие жёлто-оранжевые языки.
Дрова из бело-серых стали чёрно-красными, тепло волной прошло по комнате. Стало легко и спокойно.
Михаил подключил к розетке зарядное устройство, воткнул штекер в разъём на телефоне.
Экран телефона мигнул, засветился зелёным, уютным, тихим светом.
Михаил положил телефон на кухонный столик.
Экран погас.
«Пора».
Михаил задёрнул занавеску. Поправил – чтобы ровно висела.
«Пора искать тулуп».
Оконное стекло задрожало, коротко и тонко зазвенев.
На этот раз уж точно – от налетевшей на сад ночной вьюги.
Сколько длился сон – невозможно было понять.
Сон был рваный, неровный, тревожный. Холод сжал тело в тугую, напряжённую пружину, болела голова.
Обогреватель отчаянно шумел, вентилятор гонял по комнате горячий воздух, но помогало это мало – стены цепко держали холод, лёд на окне лишь едва оттаял, стекло всё так же закрыто было морозной, тускло блещущей слюдой.
Михаил с головой закутался в тулуп. Дышал часто, ртом, пытаясь хоть так нагреть воздух под толстой овчиной.
Под тулупом было тепло, но стоило высунуть наружу хотя бы кончик носа – сразу же прихватывало холодом, немела кожа.
Потом дрожь пробирала и всё тело.
Оттого и рвался, не складывался сон.
Сначала была темнота, в которую проваливался Михаил на минуты, вновь выныривая в мёрзлую явь.
Так лежал, подтянув колени к животу, наяву видя странные, размытые, туманные картины – не то обрывки воспоминаний, не то просто картины ночного полубреда.
И, отчаянно пытаясь заснуть, снова нырял в дремотную темноту, но сон не принимал его, и через считанные минуты темнота сна выталкивала его в темноту комнаты.
А потом от холода копилась моча. Он заранее прихватил с собой обрезанную по горлышку пластиковую бутылочку (он и в доме, на первом этаже, ещё прошлым летом соорудил весьма недурную для бывшего заброшенного дома ванную комнату – с душем, обогревателем на полтора ватта и неплохим унитазом с пластиковым бачком... даже не забыл с осени залить в канализационную трубу антифриз, так что и в морозы туалет работал, хотя вода иногда проходила с трудом, но спускаться вниз, искать в темноте непросохшие ботинки... нет уж!).
Искал он эту бутылочку в темноте, наощупь. Мочился, стараясь не разбрызгать капли, не обмочить пол.
И снова забирался под тулуп, сворачивался калачиком. Пытался заснуть...
И уже потерял счёт времени. Иногда ему казалось, что полночи уже прошло.
В одну из попыток заснуть он прошёл сквозь сонную тьму.
Прошёл насквозь – до света. И увидел дочь.
Она стояла в середине алого круга, будто в середине разгорающегося костра, в жаровне, наполненной углями, готовыми вспыхнуть страшным, палящим, всепожирающим огнём.
Он и во сне так явственно почувствовал нарастающий, кусающий кожу жар.
Он побежал к дочери, он кинулся к ней, протягивая руки.
Он застонал от боли и увидел как на пальцах его набухают, наливаются горячим соком страшные, бледно-жёлтые волдыри, лопаются – и на месте их наливаются тёмной, запекающейся кровью язвы ожогов.
А дочь стоит, спокойно и неподвижно, посредине алого адского круга. Стоит, прижимая что-то (кажется, какую-то игрушку) к груди.
Стоит и улыбается – легко, радостно, беззаботно.
И только от ног её отходит струйками белый, плотный, тяжёлый, зловонный дым.
«Папа» говорит она.
И протягивает ему игрушку.
Человечек. Тряпичный человечек.
«Клоун» говорит дочь.
«Таня» прошептал Михаил.
И его губы во сне были резиновые, сами собой тянулись в гадком, мёртвом оскале. Они не слушались, слова едва проходили сквозь них.
Они сохли от жара, покрывались трещинами.
«Человечек...»
Дочь улыбнулась.
Человечек в её руках вспыхнул ярким, фосфорно-белым пламенем.
«Забавный!»
Дочь беззаботно смеялась, держа в протянутых руках горящую куклу.
«Брось!» закричал Михаил.
И из разодранных губ солёными струйками потекла кровь.
Он отплёвывался и кричал... Сам уже не понимал, что именно.
Кукла горела – и глаза его были прикованы к слепящему этому пламени.
«Брось! Брось! Я! Не! Брось!»
«Папа, здорово? Тебе холодно? Тебе было холодно? А сейчас уже нет! Правда, хорошая кукла?»
Он отпрыгнул назад. Он снова прошёл сквозь темноту.
И темнота отпустила его.
Снова холод дома. Но в миг пробуждения он показался Михаилу обжигающим.
Он отбросил тулуп и с минуту смотрел на свои руки, будто в темноте хотел увидеть проступившие ожоги. Он проводил пальцами по коже.
Но поверхность кожи была ровной – без язв и волдырей. И только странная, едва ощутимая (но всё-таки ощутимая!), еле заметная, фантомная боль тянулась следом из страшного сна.
Он лежал неподвижно, дышал ровно, пытаясь успокоить встревоженное, истерично колотящееся сердце.
Сердце прыгало к самому горлу, будто хотело сбежать прочь. Напуганное сердце...
«Бред» подумал Михаил. «Тут не только холодно – тут ещё и воздух плохой. Застоявшийся. Не проветрил... Хотя, как тут проветришь? И так еле натопил... Внизу-то тепло, там печка. А здесь – только обогреватель. Ему ещё сутки работать, пока можно будет под одеялом спать, а не так, по походному...»
Он помахал руками, пытаясь согреться. Кровь побежала быстрее и отчаянный стук в груди как будто немного утих.
«Ерунда... Ещё и не такой бред бывает... Быть может, ещё и дымоход надо почистить? Может, снизу угарный газ сочится и травит потихоньку? Опасно, конечно. Но ничего – здесь от окна сквозит. Явно чувствую – сквозит. Так что не угорю...»
Лень, не хотелось спускаться вниз. Или что-то другое? Другое чувство?
Он снова накрылся тулупом. Ещё раз заснуть?
«А как там, внизу? Меня нет... Пустая комната, плита с кастрюлями, стол у окна, лавка, пара стульев... коридор... Тишина. Темно, всё время темнота. Кто в темноте...»
Сон... нет, не сон – просто предсонный туман, тяжесть навалилась на голову.
Ему самому такие мысли казались странными, но они почему-то упорно, неотвязно лезли в отяжелевшую, свинцом наливающуюся голову.
«Кто там теперь? Никого. Я точно знаю, что никого. Дверь закрыта. Стены мои крепки... Пора спать, пора... Хороший сон. Или никакого. Просто лежать. Просто так. Никаких снов – ни хороших, ни плохих. Я вижу только темноту. Спокойную, тихую темноту. Завтра я никого сюда не повезу. Нет, не повезу».
Он повернулся на правый бок.
«Точно – никого не повезу. Я так решил. Это же глупость – семью сюда тащить. Холодно, газа в баллоне почти не осталось. А если ещё и впрямь провода ветер оборвёт? Под новый год никаких ремонтников сюда не заманишь. Этак и чай не согреть, и... И что ещё? Метель... Дороги завалит... Не выехать... Нет, назад. Назад. Переночую – и утром в Москву. Там встретить... сон... пора спать...»
И тут, сквозь подобравшийся было сон, услышал он тихий, но явственно долетевший и ясностью своей особенно пугающий звук.
Звук, которого не должно было быть здесь, сейчас, в этом месте, в это время.
В этом доме, где лишь один человек. Один человек – он, Михаил. Он, который лежит здесь, в спальне, на втором этаже. Только он один!
Там, внизу, в отсутствие его, Михаила, в отсутствие его глаз, его сознания – там произошло нечто... Там появилось...
Такого не бывает! Даже сны такие приходят редко.
Появился, родился, пришёл странный, немыслимый, невозможный!
Скрип лестницы. Старой деревянной лестницы. Лестницы на второй этаж.
Лестницы в этом, в этом самом доме!
Ступенька скрипнула где-то внизу. Кажется, первая или вторая по счёту.
И ещё раз тихо, но так отчётливо скрипнула ступенька. Похоже, следующая по счёту.
Кто-то шёл по лестнице. Кто-то поднимался наверх.
«Господи!»
Это пробуждение от полусна было куда страшнее предыдущего.
Это, похоже, был не сонный бред.
«Не с ума же я сошёл?»
Он открыл глаза. Лёг на спину. Смотрел в едва различимый во тьме потолок и слушал.
Он лежал – мертвецом, с остановившимся дыханием (или ему лишь казалось, что оно остановилось... он не чувствовал себя, своё тело... даже сознание умирало – мёртвым покрывалом, полусгнившим саваном, пропитанным трупной жижей, сочащейся из гниющего мяса, зелёной жижей...).
Неподвижно – нельзя шевелиться!
Спальня становится склепом – и потолок опускается. Опускается крышкой, с покатыми краями, тяжёлой крышкой.
Всё ниже и ниже, к самой голове, к глазам, так что дерево его, будто дерево гроба. И кажется, что вот-вот начнётся – непоправимое, что совсем уже близок миг, когда откуда-то сверху посыпятся, ударят по дереву плотные комки смёрзшейся зимней земли, и удушье начнёт сдавливать грудь, и в стыки между досками просыплется серая кладбищенская пыль.
Звуки, нарастающие, теперь уже хорошо слышные, шли из-за стены, из-за неплотно закрытой двери.
Скрипы ступеней...
«Сколько ступенек? Сколько их всего? Кажется, восемь... Не больше десяти. Никак не больше. Господи, кто это? Кто забрался в дом? И как? Дверь же закрыта!»
Некто, шагавший к его двери (Михаил отчего-то не сомневался, что этот некто шёл именно к нему... а ведь куда ещё идти? ведь на втором этаже – только спальня, а в спальне...) остановился.
Кажется, почти у самой двери.
Михаил лежал неподвижно, стараясь дышать тихо, неслышно. Ему казалось, что стоит издать хоть какой-нибудь звук, стоит одним лишь неосторожным движением спугнуть тишину – и кошмар станет пойдёт по нарастающей, станет неуправляемым, и тогда случится такое... И тогда...
Откроется дверь?
Слышно дыхание... Этого... Кого?
Кто стоит у двери?
Как же он залез в дом? Если бы ломал дверь – было бы слышно.
«Сон неглубок, чуток. Я бы от шороха проснулся... да вот и проснулся – от едва слышного скрипа».
Тогда – как?
Залез через окно... Нет. Оконные рамы смёрзлись, окно так просто не открыть. Был бы грохот, звон...
Если разбить стекло – тем более. И тогда потянуло бы таким холодом!
Нет...
«А, может...»
Во рту пересохло. Дыхание сбилось и Михаил, против воли, с трудом проталкивая воздух сквозь сжавшуюся гортань.
«А, может, он уже был в доме? Заранее пролез или даже жил здесь. Его сообщник сбежал, эту тень я видел у сугроба... А этот – остался. Он знает, что я здесь... Хозяин здесь. Глухое место...»
Захотелось кричать. Дрожь, крупная дрожь пошла по телу.
Да, закричать! Вскочить, прыгнуть в окно... Бежать, бежать прочь...
«Глухое место... Никто не поможет...»
Бежать! Вот ведь...
«Он убьёт меня!»
Деньги, ключи от машины...
Куда бежать? Холод, снега кругом. За забором – кусты, замёрзшие, в мертвом инее. Дальше – белое поле. И лес.
Смерть. Медленная смерть от холода.
Нужно что-то придумать.
Нужно...
Некто за стеной сделал шаг – скрипнула половица, ещё одна. Он уже у самой двери, дальше некуда идти. Некуда – только взяться за ручку двери. Даже не надо поворачивать её – только взяться, слегка толкнуть дверь.
Михаил повернул голову. Проклятая дверь, проклятая чёрная щель между приоткрытой дверью и порогом. Кажется, будто чья-то тень уже проникла в комнату. Дверь будто магнитом тянет взгляд – не хочется смотреть, страшно, но не отвести глаза, не отвести, будто от пропасти.
И кажется, что щель, тёмный провал – растёт, растёт, на миллиметры, на сантиметры. Растёт, растёт!
«Нет, нет... Мне кажется. Просто нет света, одни тени вокруг. Вокруг – только ночь. Мне кажется. Сон мой сломан, сон не покидает меня. А если просто ущипнуть...»
Михаил протянул руку – к двери, навстречу тёмному гостю. И с нескрываемым, неодолимым уже ужасом услышал (так близко, близко – будто уже у самой шеи, у затылка, у головы – рядом!) свистящее, тяжёлое, смрадом пахнувшее дыхание.
«Не сон!»
Разум, окружённое ночным сумраком, слабеющее «Я» забилось в истерике, застучало ватными кулачками в стенки черепа: «Беги! Беги! Спаси меня! Ради бога! Ради себя! Спаси меня! Я прошу, я умоляю – беги!»
Михаил, уже не владея собой, не видя ничего, кроме ползущей ему навстречу из дверного проёма длинной, извивающейся, будто узкими щупальцами расползающейся тени – вылетел из кровати, будто выброшенный распрямившейся пружиной, кинулся к тумбочке, на которой оставил он спасительный свой топорик и, схватив его (для чего-то, будто щит, прижав к груди), отпрыгнул назад, к окну, ладонью заколотил по зазвеневшему стеклу.
И понял, что нелегко это, не столько физически трудно, сколько психологически нелегко – нелегко решиться на быстрый, резкий удар по стеклу.
«Да я же руку себе в кровь порежу!»
Он отступил на полшага от окна, размахнулся, ударил наотмашь топориком по стеклу.
Стекло с тяжким скрежетом медленно, будто нехотя пошло трещинами.
И тут...
Михаил услышал, как этот некто, этот страшный некто, стоявший за дверью некто, почти добравшийся до него некто – отступил, кажется, даже споткнулся и кубарем бросился вниз по лестнице.
«Он...»
Ещё не веря своей удаче или, быть может, собственной силе Михаил тихо подошёл к двери. Прислушался и...
«Он испугался! Он боится! Он боится меня!»
Ему стало противно от собственной слабости. От неожиданно взявшего верх над ним страха.
«И чего это я? Быть может, действительно это какой-то бродяга. Жалкий, спившийся, слабый, мерзкий бродяга. Он залез в дом... Наверное, перед самым моим приездом. Подумал, должно быть, что я заснул и полез на второй этаж. Захотел, гад, в вещах моих покопаться... Ну, точно! Портмоне-то я внизу не оставил. Я умный! Умный! Он внизу ничего подходящего не нашёл... Господи, хорошо, если телефон не стащил! Ну да, решил добраться до денег. Ограбить сонного. И полез наверх. Услышал шум, понял, что я проснулся – и вниз, вниз! Тварь трусливая... Но вот...»
Хорошо, он сбежал вниз. Но куда после этого делся? Куда скрылся? Где спрятался?
Не слышно шума открываемой двери. Не тянет снизу холодом. Не слышно вообще никаких звуков. Тишина. Полная тишина.
Будто этот самый бродяга... Растворился в воздухе?
Или почудился?
Да нет – скрипы, шорохи, звуки шагов... Дыхание!
Всё это было слышно так явно, так чётко. Разве таким бывает сон?
Нет, он был здесь. Стоял возле самой двери. Быть может, даже держался за ручку. Стоял, готовился войти. А теперь – где он?
«Он в доме. Он всё ещё в доме. Он почему-то не сбежал. Не ушёл... Что это? Почему так? Стало быть... Не так уж сильно он меня и боится? Или он знает какое-то место в доме, где можно спрятаться... хорошо спрятаться? Ну да, ведь я же не видел его, хотя весь вечер ходил по дому... таскал дрова... искал инструменты... одежду на вешалку. Две комнаты на первом этаже всего. Две комнаты и ванная... она же туалет. Везде я был, везде ходил, всё смотрел... Где он прятался? Где? Места такого нет... Не призрак же он, в самом деле. И где он спрятался сейчас? Почему он не уходит? Чего выжидает? Или он ждёт, пока я спущусь вниз, чтобы...»
Михаил потянул дверную ручку на себя. Дверь открылась – и никого за ней.
Он прислушался – тишина внизу.
«...чтобы напасть?»
Он переступил порог. Потряс топориком, будто заранее угрожая таинственному гостю.
И крикнул:
- Эй! Я тебя видел! Я знаю, что ты в доме! Ты не спрячешься – здесь негде прятаться! Я здесь каждый уголок, каждый закуток знаю. Ты напрасно думаешь, что сможешь где-нибудь отсидеться. У меня оружие...
«И нечего отмалчиваться!»
- ...В случае чего – башку разнесу! В клочья! Так что выходи... Слышишь? Я спускаюсь! Я иду вниз. Иду медленно. И ты выходи – медленно...
«Имеешь право хранить молчание...» отчего-то припомнил слышанную много раз фразу Михаил.
И тут же слегка хлопнул себя ладонью по затылку, чтобы отогнать глупые мысли.
И начал медленно, боком, ступенька за ступенькой – спускаться по лестнице.
- Я иду вниз. И ты выходи. Спокойно расстанемся. Тихо. Без шума. Если взял мобильный – верни на место. И я всё тебе прощу. Уходишь без проблем. Обещаю! Открываю дверь – и ты уходишь. Я о тебе забуду...
Последняя ступенька.
«Их восемь! Не десять, не девять – восемь. Теперь буду знать...»
- Я внизу! Выходи!
Тишина. Некто (неведомо кто – бродяга, вор, маньяк-убийца, просто ненароком забредший в заброшенный дом странник) – исчез.
Но был же, был!
Михаил, стоят боком к стене («тоже ведь насмотрелся... где-то...») толкнул дверь в одну из комнат. Ту, что ближе к лестнице. И, выждав секунду, заглянул туда.
Никого.
Михаил зашёл в комнату. Щёлкнул выключателем...
И прежний, едва ушедший страх снова холодной иглой кольнул сердце.
Свет не включился!
«Что? Этот гад до щитка добрался?»
Михаил вышел в коридор. Подошёл к электрощитку. И тут понял, почему тишина в доме была такой полной – щиток, обычно гудевший от проходившего через него тока, теперь молчал. И красный огонёк (индикатор включения) – погас.
Михаил протянул руку, нащупал тумблер («он повёрнут... включён... и пробки не выбило...»), повернул его, ещё раз повернул.
Ничего.
«Господи!»
И тут он понял... вспомнил... осознал – обогреватель!
Там, наверху, в спальне!
Он молчал. Он тоже молчал.
«Когда?»
На каком-то отрезке, на каком-то прыжке в сон, в каком-то забытье, когда-то он замолчал. Затих вентилятор и...
И потому были так хорошо слышны скрипы! И дыхание!
«А я не заметил! Не заметил!»
Этот гад обесточил дом!
«А, может, ветер? Всё-таки оборвал провода?»
Но ему казалось...
Нет, он почему-то был уверен, что этот гад, именно этот невидимый, где-то прячущийся гад обесточил дом.
Как? Обрезал провода у щитка, вырвал пробки... Да не всё ли равно?
Зачем?
Зачем бродяге, грабителю, вору...
«Постой... Нет, можно и это объяснить. Он видел меня... Понял, что я буду ночевать в доме. Допустим, хотел незаметно ограбить, убежать... И решил, что в доме может быть сигнализация... А вдруг? Мало ли... И оборвал...»
Михаил понял, что получается всё как-то слишком сложно. Слишком сложно для простого грабителя.
Прятаться в доме, рвать провода, лезть наверх, бежать вниз, снова прятаться...
«Не проще ли ему было открыть дверь и уйти... Да где же он?»
Михаил с теми же предосторожностями заглянул в ванную.
И там – никого.
Ванна (пластиковая, квадратная) слишком мала, вплотную прижата к полу.
«Нет, под ней уж точно не спрячешься».
Остаётся только одна комната.
Там плита, печка, диван, стол у окна, лавка, стулья, старый сервант...
«Разве что там...»
Михаил взял наизготовку топор. В комнату зашёл на полусогнутых ногах, будто готовясь к прыжку.
Стоял с минуту, уставясь в стену. Почему-то было трудно, очень трудно повернуться к окну.
И когда, пересилив себя, пересилив странную эту, неведомо откуда взявшуюся боязнь – посмотрел он в глубину комнаты, в сторону окна, туда, углом сходились стены эркера, то увидел... тень, фигуру, смутно... будто тень становилась плотнее, плотнее, и яснее были её очертания...
Кто-то сидел за столом!
У окна...
«Вот так, как и он...»
Нет! Не может быть!
«Я же вернулся... я же отвёз тебя...»
Он сидел окна. Так как прежде. Такой же как прежде – прямая спина. Только голова упала на бок.
Неподвижный. Немой.
И, кажется, в лунном свете был виден блеск широко открытых глаз. Ещё не потемневших глаз.
«Небо очистилось... луна вышла».
В комнате и без света светло.
Он ничего не скажет... Должно быть.... Он будет так сидеть – мёртвое тело, умерший, покинутая душа. Холоден.
Он не позовёт.
«Почему ты здесь?»
Быть может, это он, умерший, но какой-то частью своей, быть может – лишь только бесплотным призраком живущий в старом своём, любимом своём доме, шёл по лестнице, пробирался наверх, к нему – увидеть, встретиться, сказать что-то...
«Но почему скрипела лестница? Его тело – в могиле. Я сам хоронил его. Я же был на кладбище, я видел, как гроб опускали в яму. Глубокую яму. Могильщики постарались на совесть, там было метра два с половиной в глубину, так что последний из кладбищенских рабочих вылезал из ямы, схватившись за ручку протянутой ему сверху лопаты. Два с половиной метра, не меньше. Земли – тяжёлой, глинистой. Не выбраться... Если он смог вернуться назад...»
Топорик с грохотом выпал из ослабевшей руки. Ладони онемели и стали ватными. Правая рука, та, что сжимала топор – так и осталась вытянутой вперёд. Но теперь уже с разжатыми пальцами.
Так нелепо, нелепо...
- Папа? Это...
«Призрак – невесом. Ступеньки не могут скрипеть под его ногами. У него нет ног, нет тела. Только то, что сохранила память... Но в действительности... Его нет. Он только кажется. Чудится. Видится – больным глазам, больному сознанию. Неровный, рваный сон измотал меня, отнял у меня последние силы. Я стал бредить... Сначала – странные, страшные сновидения, бред. Потом – я стал грезить и наяву. Сон не покинул меня... Быть может, я успел сойти с ума. Или заболеть... У меня жар...»
Ему показалось, будто призрак у окна пошевелился. Будто шевельнул плечом, с трудом преодолевая сковавшую его недвижность смерти.
- Что тебе? Папа, я здесь...
Прежний, вроде бы уже ушедший когда-то, но вместе с призраком вернувшийся запах тлена – сладковатый, приторный, липкий запах пополз по комнате. Он смешивался с горьким запахом дыма, сгоревших в печи дров, остывающих углей, разогретого печного железа, и смесь эта, удушливая, больная, сводящая судорогой грудь – казалась воздухом преисподней, дыханием нежити.
- Папа, как ты? Ты...
Туманный силуэт с расплывшимся контуром – теперь уже нельзя было узнать его, рассмотреть знакомые черты.
И да знакомы ли эти черты?
«Мне чудится... голова кружится. Господи, он ли это? Или только ночной морок?»
Михаил, то ли от нервного перенапряжения, то ли от внезапно накатившей слабости, покачнулся и, пытаясь сохранить равновесие, сделал шаг вперёд. К столу, к окну – и призрак, словно испугавшись, отшатнулся от него.
- Папа!
Всплыл – плавно, закачался в воздухе, плотном, будто вода.
Михаил почувствовал как правая рука (немая, бесчувственная, будто и не его) сама собой чертит круги в воздухе. А левая, словно пытаясь вторить ей, дёргается, подпрыгивает, трясётся в мелкой дрожи.
- Па... па...
Призрак начал медленно разворачиваться – лицо к нему. Лицом... Чьим?
«Неужели он вернулся? Откуда? Из каких краёв? Где жил он, где нашёл приют? И почему он вернулся? Или он и не уходил никуда? Я отвёз в Москву, в морг, а потом и на кладбище лишь его тело. А душа его осталась здесь. Он всё так же сидел у окна, всё так же смотрел на дорогу, на калитку – ждал меня. Мёртвые не видят живых. Я приходил в этот дом, я возвращался сюда, но он меня уже не видел. Он всё так же сидел и ждал. И ему казалось, что я забыл его, покинул его навсегда. Ему было одиноко. Горько и обидно. Он думал, что я бросил его. И никогда уже не вернусь в этот дом... Но сегодня... Он увидел меня? Он смог меня увидеть? А я – увидеть его? Почему? Что произошло? Почему сегодня?»
Михаил смотрел на фантом, туманный, стремительно растворяющийся в воздухе. Он так и не успел повернуться – свет луны, пробившийся сквозь редеющие ночные облака, попал на прозрачное его тело. И прошёл сквозь него, яростным, прожигающим насквозь лучом.
Призрак, вздрогнув от боли, взмахнул руками...
Михаилу показалось, будто он услышал слабый, приглушённый стон.
...и растаял, исчез, развеялся в воздухе лёгким белым дымком.
А, может, то был лишь дым из печи, что не прошёл сквозь забившуюся сажей трубу?
И всё это и впрямь лишь почудилось?
«Если это сон» почему-то решил Михаил (странные, очень странные мысли стали приходить ему в голову!) «то я могу летать. А если не могу – не сон. Просто бред. Вот так!».
Он подпрыгнул. Тело было прежним, что привык он ощущать каждый день – тяжёлым, не слишком поворотливым.
Доски пружинили.
Михаил подошёл к окну. Успокоившимися руками поводил по воздуху, будто пытаясь нащупать исчезнувший фантом.
«Нет, ерунда!»
На спинке стула висела с вечера оставленная здесь куртка.
«Быть может, в лунном свете она и показалась мне... Воздух здесь нехороший, печь дым подпускает. Надо бы проветрить. Кажется, ветер стих и снегопад прекратился. Луна... Небо ясное...»
Он провёл ладонью по лбу, стирая липкий, густой, словно патока пот. И вытер ладонь о куртку.
«Он приходил» решил Михаил. «Он и впрямь приходил. Он хотел разбудить меня...»
Михаил и сам не мог понять, почему эта мысль пришла ему в голову. Он и сам не мог понять, почему, по какой причине всё-таки поверил в приход призрака. Почему не схватился за соломинку здравого смысла, не стал придумывать (да что их придумывать? разве не всегда они под рукой?) куда более привычные объяснения.
Всё те же объяснения: ничего нет, кроме снов.
Надо только проверить, надо только ущипнуть себя, надо только подпрыгнуть и убедиться в том, что воздух сна достаточно плотен для того, чтобы удержать тело в воздухе. Надо только сделать что-то очень простое и понятное – и тогда всё встанет на свои места. Голова вернётся на плечи, ноги коснутся земли... или пола... Не важно – они будут внизу.
Мир станет понятным, стрелки часов сдвинутся с места, зазвенит будильник, зашумят машины за окном, чашка с утренним кофе легонько стукнет о блюдце...
И вокруг будет привычная жизнь, неостановимая, непрерываемая в привычности своей.
«А, может, я сюда и не приезжал? Ну да, я в городе. В своей квартире. Я заболел... Скажем, гриппом. Я всё время под Новый год болею. В Москве в декабре каждый год эпидемия. Все болеют, и я тоже. Я лежу с высокой температурой. И мне кажется, что под самый Новый год я поехал на дачу. В этот самый... Какой этот? Ну тот, что мерещится – в этот самый дом. И решил, остолоп, ещё и семью прихватить. И зачем?! Подумать только – встречать Новый год. Вот здесь, в этом старом доме, где только летом и можно жить. Да и то – без особых удобств. Хорошо только, что по нужде на улицу бегать не надо... И что? Я и впрямь решил привезти сюда семью? Маленького ребёнка? Глупость! Конечно, это только почудиться может. Я, должно быть, перебрал с антибиотиками. Вот...»
Михаил подошёл к окну, пальцем провёл по запотевшему стеклу. Мелкие капли, будто предутренняя роса, частой кисеёй накрыли стекло. Только лунный свет проходил сквозь них, просачиваясь тонкими струйками.
«Но он приходил... Пусть только в сон, пусть на считанные минуты... Он хотел что-то сказать. Но свет, лунный свет не дал ему. Он не успел... И не он пробирался ко мне. Другой? Быть может, он хотел...»
Михаил положил ладони на стекло. И кожа, насквозь просвеченная луной, казалась прозрачной и призрачной, будто слепленной из того же, фантомного тумана.
«А, может, я задохнулся? И лежу сейчас наверху, под тулупом. Но он меня не греет, потому что я труп... Но почему тогда мне было так страшно? Или мертвецы так же могут испытывать страх? Что их может напугать? Другие мертвецы? Конечно! Ведь бывает так, что живые боятся живых. Почему бы и мёртвым не боятся мёртвых...»
Михаил ребром ладони стёр мёрзлую испарину с окна. Сквозь чистую полоску на стекле виден был двор в сугробах.
Серебристых сугробах, сияющих, торжественных, пышных, искрящихся под лунными лучами. Любовно отглаженных метелью, полированных ветром до алмазного блеска.
Двор в белых холмах, высоких – по пояс, а то и по грудь.
«Вот так выйти... Упасть – на спину. В снег. И очнуться...»
Очнуться – от чего?
«Наверное, хватит обманывать себя. Не так уж важно, привиделось мне это, почудилось, или и впрямь завелось здесь нечто... такое... Если даже это только сон, то и тут ничего хорошего для меня нет. Нормальному человеку такое никак привидеться не может. Стало быть, я не нормален. Свихнувшийся, то есть. А, коли так, то и невелика радость от того, что всё это было лишь видением. Если я сумасшедший, то с видениями мне всё равно не справиться. И они могут вернуться... И ещё раз вернуться... И ещё раз... Или стать иными. Теми, что не отличить от реальности. Или реальность моя станет такой, что мне в ней не разобраться. И я совершенно запутаюсь... Если кошмар наяву – он закончится. А если во сне? Так вот как получается – привидевшийся кошмар пострашнее реального... или нереального... не понял. Ничего не понимаю! Одно понимаю...»
Михаил тяжело вздохнул и резким движением сорвал занавеску с окна.
Безжалостно, рывками скомкал её, бросил на пол и начал топтать. Яростно, словно вбивая в жалобно застонавшие доски пола.
И закричал:
- Одно знаю: бежать! Я уйду отсюда, уйду! До машины – и немедленно в город! Немедленно...
- Не успеешь, - прохрипел кто-то (почти что проскрипел – настолько вымученным, деревянно-безжизненным и натужно-вымученным был тембр голоса этого существа... существа? но что-то же знакомое!..) у него над ухом.
Михаил быстро обернулся – и прежний белёсый, морочный туман поплыл у него перед глазами, сгущаясь, собираясь в странный, колеблющийся, плывущий в воздухе кокон.
Туман становился всё плотнее и плотнее, тяжелел, на глазах наливаясь чернотой.
И вот, когда он, почти уже принявший форму того самого, едва только, минуты назад привидевшегося тела, искорёженного болезнью и готово к тлению; тела, не к сроку (или, наоборот, именно к сроку, к неведомому пока Михаилу сроку) воскресшего, в тот самый миг возвращения фантома услышал Михаил громкий, властный, отчётливый стук по стеклу.
- Поздно, хороший мой... Как жаль! – скрипел всё тот же голос (его? не может быть! неужели так властна смерть?).
Михаил обернулся, посмотрел в окно – и обмер. Кажется, в эту ночь он испытал уже всё, видел всё страшное, что могло почудится (или увидеться?) в старом доме.
Но то... То, что стояло за окном...
Страх перед этим монстром мог перевесить всё! Всё. Виденное в эту ночь, всё, виденное в жизни, все кошмары наяву и в навьих лабиринтах, все сны, все видения плавящегося от жара болезни мозга, любой бред, любой шизофренический кошмар - было ничто.
Только картины. Картины пусть отвратительные, пусть подчас едва переносимые сознанием, но переносимые.
Этот же кошмар, кошмар в самой отвратительной плоти ни одно сознание, даже свыкшееся с постоянно являющимися перед мысленным взором картинами потусторонних миров, даже сознание, закалённое ежедневными провалами в безумие – даже такое сознание не перенесло бы встречи с существом, от которого в отвращении отвернулся бы и ад.
Тварь огромного, почти трёхметрового роста, с полусодранной, висящей клоками кожей бледно-зелёного, трупного цвета. С длинными, когтистыми лапами, что от плеч до узловатых, чёрных, будто от угля чернёных пальцев заросли седыми, мёртво-белыми, густыми, спутанными в колтуны-клочья волосами.
С лапами, скребущими воздух, царапающими воздух стальными когтями...
Тварь с круглыми, навыкате, глазищами – пронзительно-жёлтыми огнями светящими в глубину окна, в чрево дома, будто высвечивающими, выискивающими притаившихся обитателей обречённого жилища.
Тварь, воющая навзрыд. Тварь – чёрная морда хищного зверя (то ли волчья, то ли гиены-трупоеда) в глубоких шрамах, из которых сочится бледно-серый гной.
Тварь – пасть чёрная, с длинными клыками, острыми клыками. Из пасти стекает, сохнет на лету, свисает длинными белыми нитями слюна.
Морда вытянутая, ноздри широкие – из ноздрей капает кровь. В свете луны – режущим глаза, пронзительно-алым цветом, будто светится, будто горит.
Живот у твари распорот, жёлто-бело-зелёный фарш трупного мяса, трупной плоти ползёт, выдавливаемый, валится из распоротого живота на снег, под расставленные нижние лапы твари, под лапы, где когти – по кругу, когти вцепились в до камня промёрзший снег.
- Нет,.. – прошептал Михаил.
И прежний голос, теперь уже громче, яснее – сказал ему:
- Прости, сынок. Кажется, не так всё получилось. Не так, как могло бы быть...
Михаил обернулся (и за спиной его, из-за окна – вздох тяжёлый и взвизг... хищный, рваный, нетерпеливый!).
Отец... Призрак, всё тот же, что привиделся прежде – на стуле, у стола, напротив окна. Теперь уже в шаге от Михаила.
Прежний, ушедший было, но вернувшийся призрак.
С лицом отца. Тем лицом, что запомнил Михаил: глаза открыты, зрачки неподвижны, кожа бледна, кровь выпита смертью, соки ушли из тела, рот слегка искривлён (казалось тогда – усмешка... но нет, откуда ей быть! просто бессилие, не удержать губ – бессилит уход, мышцы мягкой резиной...).
Только белки глаз – светятся. Только они держат ещё призрачную жизнь. Только они у призрака – свои. Не те, что были у отца...
- Кто?! – вскрикнул Михаил.
Он отступил назад, прижался спиной к стеклу – и тварь за окном, будто почуяв подступившую тёплую плоть ударила лапой по стене, стена вздрогнула, загудела, вагонка с внешней стороны хрустнула под ударом.
Михаил чувствовал, что ноги уже не слушаются его. И сознание может в любой миг покинуть его.
И тогда... Что тогда?
Зачем это всё? Кто явился к нему? Отчего эти создания... одно, другое... Дом будто ополчился на него.
Или не дом?
Что другое? Другое?
Кого приманил он? Кого разбудил, сам того не ведая? И как?
Господи!..
- У тебя бога нет, - сказал призрак. – Не притворяйся, сынок. Ни бога у тебя нет, ни святого в душе...
- Па,.. – прошептал Михаил. – Я не... Не могу... Такого... Папа, ты? Я же увёз тебя...
- Ты меня много раз увозил, - ответил ему призрак. – И всё время привозил обратно. Вот так и привёз... в последний раз... Видишь монстра за окном? Видишь лютого?
- Вижу, - еле вымолвил Михаил, боком протираясь по стене, отступая вглубь комнаты.
- Не бойся, - голос призрака снова сорвался на скрип...
«Это не голос отца» пронеслось у Михаила в голове. «Что-то не так... Не его голос!»
...и засмеялся.
И, то ли от смеха, то ли оттого, что на него снова попал луч луны, но вновь облаком пополз призрак и едва не растворился. Словно очнувшись, увидев опасность – он успокоился. И едва заметным движением переместился в кресле (заметил Михаил, что голову призрак держал, свесив на бок, при том скособочившись... будто после смерти уже нельзя было иначе... нельзя?), так переместился, чтобы не светила на него опасная луна.
- Легко ли это? – голос призрака зазвучал тихо и печально. – Легко ли это - быть одиноким? Особенно, если у тебя есть сын? Ответь мне, Миша. Не бойся твари за окном. Он не войдёт в дом. Не войдёт, проклятое чудовище! Он силён только там, снаружи. Там светит луна. Она придаёт ему силы. Она гонит по гниющим его венам лунную кровь. Она у него белая. А вот так кровь, что течёт у него из ноздрей, иногда – из пасти, из утробы, могильной, бездонной утробы – та кровь красная. Алая! Эта кровь – не его! Эта так кровь, что выпил он, высосал из окоченевших, льдом покрытых трупов. Он не может, он не способен грызть живую плоть! Тварь!
Призрак зашипел, захрипел – и зашёлся в кашле.
Михаил стоял у самого выхода из комнаты – и не знал, что делать.
Пока ясно ему было только одно:
«К чёрту топор! Не поможет... Нет...»
Топорик лежал на прежнем месте, на полу – там, где и упал.
«Хоть что-то осталось на своём месте».
Михаил наклонился, протянул руку к нему – и топорик вдруг закружился волчком, завертелся и, проехав по полу, юркнул под лавку.
- Нет.
Призрак укоризненно мотнул болтающейся на перекошенной шее головой.
- Нет, Миша...
- Я не Миша,.. – прошептал Михаил. – Я не знаю, отец ли вы... ты... Кто ты?
- Отец, - упрямо повторил призрак. – Не верь! Но только послушай – не выходи во двор. Не бойся этой твари, но не выходи во двор. В доме он не достанет тебя. Но там, при луне... Сердце твоё разорвётся от ужаса. Ты умрёшь. Труп твой будет лежать, холодеть, покрываться льдом. А тварь встанет на четвереньки, будет ползать вокруг твоего тела, изредка облизывая его холодным своим, шершавым языком, будто пробуя на вкус. Когда твоя плоть остынет, когда снег уже не будет таять у тебя на лице...
Призрак, помолчав секунду, выкрикнул:
- Он будет жрать тебя! Он будет грызть тебя! Перекусит кости! Разорвёт мышцы! Вытянет изо рта и проглотит посиневший твой язык! Распорет живот и верёвкой потянет кишки – а они не будут уже дымиться на холоде! О, не будут! И выпьет кровь! Будет лакать, лакать! Кровь!
- Ты не отец, - сказал Михаил.
Твёрдо и уверенно.
Он и сам не знал почему: почему сначала поверил в явление призрака, почему не счёл это бредом, и почему теперь он был так уверен в том, что это – не отец.
Не часть его (пусть самая малая, пусть даже трансформированная, быть может, даже искалеченная смертью). Не душа его. Не исчезающий земной след.
Нет.
Призрак, что... притворяется? Притворяется!
Но можно ли притворяться с благой целью? И почему он (именно он, этот призрачный оборотень!) отобрал у него топорик?
Может, и бесполезное (или нет?), но всё-таки оружие. Отобрал!
«Он что, всё-таки боится меня? Или издевается? И не он пробирался ко мне... Скрипели доски – так, может, и они призрачные? Или дом предупредил меня, что ко мне пробирается оборотень?»
Михаил повернулся, вышел в коридор.
- Куда?! – закричал призрак. – Миша, вернись! Не уходи, со мной тебе ничего не грозит. Я вернулся, Миша. Я здесь, сынок! Я спасу тебя, спасу! Пока ты рядом со мной – он не приблизится. Этот монстр бессилен... он грозен только там, при луне... Луна скоро уйдёт, и я...
«Луна скоро уйдёт!» эта мысль пронзила, будто отточенная сталь.
До боли!
«Скоро уйдёт... уйдёт...»
Михаил, стоя уже у самой двери, двери – на выход, во двор, к чудовищу, шептал, и, повторяя шёпотом фразу об уходящей луне, чувствовал, что вот-вот поймёт что-то очень важное...
Быть может, настолько важное, что сможет, наконец, разом объяснить нахлынувший на него ночной кошмар... И даже спастись!
«Луна...»
- Вернись, - звал призрак. – Назад... Не открывай дверь. С открытой дверью я не смогу спасти тебя! Миша, сынок! Родной, хороший мой – послушай меня. Послушай! Назад... времени немного...
«Немного...»
Догадка, нехорошая, до одури, почти до обморока жуткая – пришла, наконец.
«Мертвец! Труп! Вот кто нужен ему!»
- Оборотень! – закричал Михаил и кинулся к двери.
- Стой! – застонал призрак. – Я же потеряю тебя! За тобой, за тобой пришёл могильный этот сторож! Сынок, это он убил меня – монстр, монстр. Я лишь посмотрел в его глаза, через стекло, когда сидел у окна – и душа моя покинула тело. Был летний вечер... Миша, это был июль?
Михаил остановился. У самой двери.
Потом повернулся и снова зашёл в комнату.
Призрак сидел на прежнем месте, и так же висела голова, но теперь она как будто стала меньше. И волосы, редкие, прежде, ещё минуты назад седые – потемнели. И... как будто... росли? Росли?
«У тени?»
- Ты морочишь меня, - сказал Михаил, подойдя к столу. – Я знаю...
- Молчи! – призрак поднял руку, вытянул её, словно хотел зажать Михаилу рот.
Но не хватало сил фантому, не мог встать. И лишь тянул прозрачную руку со скрюченными пальцами.
- Ложь, - продолжал Михаил. – Это ты пробирался ко мне...
- Это страх помутил твой разум! Это безумие, - шептал призрак.
И рука его бессильно упала – луна, луна держала его. Ему не хватало сил. Руки висели, покачиваясь, вытянулись вдоль тела. Черты лица плыли, покрывались синей дымкой, иногда светились мягким серебром...
Но это – не он! Синий халат, как у отца – но из дыма, клубящегося, тающего дыма.
Это не он!
- Не страх, - ответил Михаил. – Теперь я спокоен... почти. Ты было обманул... ты почти достал меня. Это ты подбирался ко мне! К сонному! Зачем? Выпить кровь? Выпить мою кровь?! Дом спугнул тебя! Дом не дал тебе воли! И ты бросился вниз. Дождался, пока я спущусь. Приду сюда... на это место... где он... умер. Умер! И тогда – ты притворился им! Ты притворился моим отцом!
Михаил и сам не заметил, как сорвался на крик. Он кричал, и чувствовал, что призрак начинает дрожать, дёргаться от его крика.
И монстра за окном замер. Потом отступил от дома. И (взглядом искоса увидел Михаил) – лапы чудовища стали подламываться, будто картонные.
«Я прав? Прав?»
- Он заманивает тебя, - прошептал призрак. – Он лишь притворяется бессильным... Не верь ему, Миша! Едва ты выйдешь...
- Луна вредна для тебя, - сказал Михаил.
И увидел, что попал в точку. Лицо призрака поплыло. Голова превратилась в белый, туманный шар.
- Ты здесь, - Михаил ткнул пальцем в сторону фантома.
- И там!
Он показал пальцем в сторону окна.
И отчеканил:
- Это ты!
- Врёшь,.. – голос призрака стал звенящим, отрывистым, грозным.
- Ты там! – торжествовал (и чувствовал, что рано, рано торжествовать!) Михаил. – Этот монстр – ты. Ты внушил мне его. Он и впрямь бессилен. При луне или нет – всё равно. Потому что его нет вообще! Это ты с помощью монстра держишь меня в доме. Ты не можешь убить меня, оборотень, потому что луна вредна для тебя. Она отобрала твои силы! Ты держишь меня в доме, не даёшь мне уйти, хотя сейчас я мог бы легко сбежать от тебя. Ты ждёшь, пока уйдёт луна. И тогда... Что тогда? Что ты сделаешь со мной? Что ты хочешь со мной сделать? Отвечай!
Призрак молчал.
- Отвечай! – крикнул Михаил. – Тебе уже не спрятаться, не заморочить меня!
- Мразь! – прошипел призрак.
- Попался! – воскликнул Михаил. – Вот ты и попался! Мой отец никогда не назвал бы меня так. Никогда!
И он повернулся. И пошёл к выходу.
И тут услышал:
- Ты мог бы похоронить меня здесь, сынок. И поселиться в этом доме. Вместе со своей женой... Вместе с моей чудесной внучкой... Я бы навещал вас иногда. По ночам я выбирался бы из могилы, залезал в дом... и грыз бы вам ноги!
Призрак захохотал – смехом дурным, визгливым.
- Я грыз бы вас! Всех!
Михаил сжал ладони в хрустнувшие кулаки – и резко выбросил обе руки вперёд, с размаху ударив стену.
Рассёк кожу – и капли крови поползли по дереву бруса, капли впитывались в дерево.
Шум прошёл по дому – будто дом тяжело застонал.
- Тоска родила меня, - уже иным голосом, спокойным, размеренным, тяжёлым продолжал призрак. – Тоска твоего отца. Мне так мало было надо для рождения! Твой отец купил дом и не посмотрел на то, что дом-то стоит на отшибе. В глухом месте. Когда люди были осмотрительнее! Они знали, что глухие места прокляты! Прокляты! Здесь никто не живёт... Давно, лет двести. А дом... глупые люди, слепые люди построили дом двадцать лет назад. Они не верили в глупые сказки, они не верили в проклятья. Им хотелось уединения и покоя. Их одолела тоска! Ты знаешь, что случилось с прежними хозяевами? Они продали дом твоему отцу? Как бы не так!
Призрак стал медленно подниматься в воздух.
Он будто обретал силу!
- Как бы не так! Это были дети прежних хозяев. Два сына и дочь. Они продали дом! А что случилось с самими хозяевами? О, тебе не сказали. И не сказали твоему отцу. Побоялись, что не смогут продать дом. А что тут такого? Они ведь умерли! Всего лишь умерли!
- Здесь! – выкрикнул призрак.
И обе руки его, отделившись от тела, превратились в бледно-голубые облачка и подплыли к окну.
- Здесь! У этого самого окна! Кто принёс в этот дом могильную пыль? Кто принёс землю с кладбища? Кто не мыл ноги после похорон? Кто прошёл по моей могиле, и не вымыл ног?! Они! Они, прежние, прежние! Я пришёл вслед за ними, я пришёл по их следам! Сюда, в этот дом! Я хочу... здесь... Это мой дом! Я только... боюсь луну...
Свет в окне померк.
Облако поползло по небу. Заблудившееся ночное облако. Длинное, ветром за хвост вытянутое облако.
Мир потемнел.
Облако закрыло луну.
«Он всё-таки обманул меня» подумал Михаил. «Он заморочил меня... Он дождался тени!»
Стук в груди его стал отчаянным и Михаил почувствовал, что тугой, неглотаемый комок застрял в горле.
«Конец...»
Стукнули стрелки, столкнулись стрелки невидимых часов. И раздался звон – тихий, мелодичный.
- Не смей, - прошипел призрак.
Теперь он весь стал туманным, сине-белым шаром. Шаром, плывущим по комнате. Шаром, подплывающим всё ближе и ближе. Шаром, растущим, увеличивающимся в размерах.
Морочным дымом, заполняющем комнату.
«Бежать!»
- Телефон, - голос призрака обрёл странное, будто со всех сторон, от всех стен и углов отлетающее, со всех направлений сразу доносящееся эхо.
- Твой телефон... Прости, Миша... В доме что-то неладно... Телефон молчит... Ему тоже был нужен свет. Так жалко! Ты не можешь позвать дочь к телефону...
Шар уже в шаге. Только в шаге.
«Не слушай его!»
Михаил отступил – на шаг. Шар подплывал – и голос фантома обволакивал, обтекал, будто густой смолой, будто стынущей смолой схватывая руки, ноги, всё тело схватывая, обездвиживая... парализуя... усыпляя... Всё тяжелее двигаться, всё тяжелее.
«Не слушай его! Не слушай! Он боится света, он лишил света дом. Он погубит тебя... погубит... Бежать!»
- Что-то неладно, Миша... Не уходи... Не верь монстру, которому нужна луна. Он почувствовал, что свет луны скоро померкнет – и упал. Упал в притворной слабости. Он лишь прикидывается слабым, умирающим, бессильным. Это он, гадкий, отвратительный монстр, порождение забытых, разорённых, проклятых кладбищ, это он внушил тебе мысль, будто я хочу погубить тебя. Это он внушил тебе, будто его, монстра, не существует, что он – лишь иллюзия, мираж, видение. Нет, Миша, нет! Не верь ему! Не открывай дверь! Стоит тебе покинуть дом – и ты окажешься во власти монстра. Подожди немного!
«Бежать!»
- Не открывай дверь! – голос фантома сорвался на визг.
И визг этот – отчаянный, злобный, крысиный, будто пробудил Михаила.
Туман полз к его ногам, но теперь уже не держал. Не мог удержать.
- Прочь, тварь! – Михаил взмахнул руками, словно пытался этим движением оттолкнуть призрачный шар.
И кинулся к двери.
Туман пытался нагнать его, накрыть, схватить за ноги, опутать синими щупальцами руки. Михаил кричал что-то (безумное, отчаянное – такое, что и вспомнить нельзя), крутился (разве можно увернуться от тумана), прыжком подскочил к двери.
Визг, отчаянный, леденящий душу визг услышал Михаил, едва взялся за ручку двери. Фантом метался, туманная плоть его рвалась в тающие клочья.
- Е-е-е-т!
Михаил застонал от боли, пронзившей барабанные перепонки.
И, последним усилием удерживая покидающее его тело сознание, с поворотом щеколды – надавил на дверь, вывалился.
Прочь из дома, на крыльцо, во двор.
Было пусто. Пусто во дворе. Ни чудовищ, ни людей.
Ровный, нетронутый снег. Темнота с искрами тихого света отражённых в снегу звёзд. Сонные деревья под белыми, пышными покрывалами.
Всё, как прежде. И расчищенная с вечера тропинка – к калитке.
- Гад! – выкрикнул Михаил, не оборачиваясь к дому. – Даже без луны ты – никто. Никто! Морок, обман! Старика ты мог погубить, а меня...
Михаил поглубже вдохнул морозный воздух и – громко, как мог:
- ...Хрен!!
«У меня брелок... в штанах?»
Михаил похлопал по карманам.
- Есть! - радостно воскликнул он.
И впервые за ночь – улыбнулся. Весело, беззаботно.
«Теперь – к машине. Хорошо... Хорошо, что я спал, не раздеваясь. До утра можно там переждать... потом вернуться, забрать куртку, телефон... и в Москву».
Михаил, зябко поёжившись, быстрым шагом двинулся по тропинке к калитке.
И, пройдя метра два, не более – услышал, как от дома, от чёрного провала полуоткрытой двери долетел тихий, свистящий шёпот:
- Кровь... Лишь немного крови... И тень!
«Луна-то ещё не вышла» отметил Михаил.
Инстинктивно прибавил шаг, протянул руку, чтобы схватиться за верх калитки и перепрыгнуть через неё – и тут только заметил, что правая ладонь липкая, тёмная... перемазана кровью!
«Дверь толкнул? Или щеколда... Порезался? Вот ведь!..»
Чёрная тень выросла в дверном проёме, чёрная тень отделилась от темноты дверного проёма.
Чёрная тень расправила с тихим шелестом крылья.
Птичий клёкот пронёсся по вздрогнувшему саду.
Тень слетела с крыльца, пронеслась над тропинкой.
Михаил обернулся.
Жаркий июльский вечер. Яблони бережно держат зелёные плоды на весу. Груши-дички... Лесная груша усыпана желтеющими плодами. В шелесте вечер, в покое.
Клумба с душистым горошком, с ирисом, фиалками – к ночи ароматы цветов наполнят сад.
Но пока – иной запах. Иной! От дома, от окна с отдёрнутой занавеской.
«Куда мне теперь идти?»
Чёрная тень накрыла его.
И вернулся декабрьский холод. С темнотою ночи без луны...
Третьего января, в полдень жёлтый милицейский «уазик» поселкового отдела милиции свернул с дороги на райцентр на едва намеченную в глубоких снегах, едва накатанную грунтовую дорогу, что вела к когда-то заброшенному дому, а теперь – дому дачному, хотя и стоящему на отшибе.
Водитель едва отыскал нужный поворот (до того – часа два крутились по району... женщина, та самая – жена владельца дачи, оказалась не слишком хорошим проводником, дорогу помнила едва-едва, да и на дачу, по словам её, ездила нечасто).
У поворота, занесённая метелями и почти уже превратившаяся в высокий сугроб, стояла «Тойота».
- Тёмно-синяя? – уточнил у женщины капитан милиции.
- Что? – переспросила она.
- Машина у вашего мужа тёмно-синяя? - повторил капитан.
- Да... кажется...
- Мама, синяя! – громко сказала девочка, что заснула было на заднем сиденье, но теперь (будто почувствовав, что конец пути близок) – проснулась.
И показала пальцем в окно.
- Вот с того края снега нет! Я вижу!
- Она, - уверенно сказала женщина. – Его машина.
- Ребёнка –то зачем взяли? – шёпотом задал капитан давно, с самой начала пути мучивший его вопрос.
Машина выглядела покинутой, заброшенной.
И капитана стали одолевать дурные предчувствия.
- Оставить не с кем, - виновато, будто оправдываясь, ответила женщина. – Бабушек с дедушками... нет уже. Садик – закрыт. Каникулы. Да она больше всех по папе скучала...
- Ещё неизвестно,.. – начал было капитан, но осёкся.
И сказал, обращаясь к помощнику, что сидел рядом с девочкой, на заднем сидении:
- Горохов, вон из машины!
- Чего так? – недовольно спросил лейтенант, которому не очень хотелось вылезать из тёплой (хотя и со щелями) машины, да ещё и прыгать в глубокий, слежавшийся снег.
- Осмотри машину, - приказал капитан. – Мы к дому поедем. В случае чего...
Он глянул искоса на женщину.
- В общем, по рации...
Лейтенант, покряхтывая по-стариковски, вылез из машины. Проваливаясь в снег почти по пояс и, будто пловец, отчаянно взмахивая руками, побрёл к «Тойоте».
Капитан вздохнул. Включил скорость, прибавил газ и быстро закрутил руль, пытаясь удержаться в едва прочерченной по белому полю колее.
Метров за пять до ворот «уазик» всё-таки зарылся в сугроб и заглох.
- Ничего, - бодро сказал капитан. – Потом попробуем назад сдать. В крайнем случае – подмогу по рации вызовем.
- Вы сидите тут, - сказал он женщине. – Пока пройдусь – участок ваш осмотрю. И дом... Так, снаружи.
- А ключи? – спросила женщина.
И полезла было в сумку.
- Нет! – остановил её капитан. – Пока не надо... Потом... Если понадобится. Когда вам муж звонил в последний раз?
- Двадцать девятого, вечером, - женщина отвернулась, чтобы дочь не увидела блеснувшие в глазах слёзы. – Потом он заехать хотел... утром. Тридцатого. Пытались ему звонить, но телефон вот у него... Не понимаю... Мы Новый год встречать...
- Я помню, - сказал капитан.
Потом вздохнул. И вышел из машины (вот только дверь открылась с трудом – машина боком упёрлась в наледь на сугробе).
- Мама...
Девочка дышала на стекло, рисовала полоски – человечек.
- Человечек... Мне приснилось, что папа игрушку купил.
Женщина, не в силах уже сдержаться, всхлипнула. Плечи её задрожали, она закрыла ладонями лицо.
- Вот такого человечка! Мама, ты чего?
Капитан подошёл к калитке. Снял шапку со вспотевшей головы, вытер лоб.
Привстав на сугробе, заглянул за забор.
Покачнулся, упал, потеряв равновесие. Шапка отлетела в сторону.
Привстал, отряхиваясь, и закричал:
- Елена!... Вот, забыл... Женщина! Я вас попрошу – сюда идите! Сюда! Только, ради бога, ребёнка в машине оставьте! Да, в машине! И идите сюда...
«Вот ведь хрень! Вот ведь...»
Из снега, почти вертикально (словно утопающий пытался выбраться из трясины) торчали руки. Белые, замёрзшие, заледеневшие руки со скрюченными пальцами, чем-то похожими на застывшие в броске когти.
Пальцы с обломанными ногтями.
Пальцы на правой руке были исчерчены тёмными полосками смёрзшейся крови.
«Он будто цеплялся за что-то... Или кого-то?» продумал капитан.
Хлопнула дверь машины.
То ли от хлопка этого...
«Что же это такое на мою голову? Что же?!»
...то ли от чего другого – едва заметная волна прошла по воздуху.
Ветки яблони качнулись – белые хлопья слетели вниз.
Присыпав тело. Будто ещё пытаясь согреть тихим покровом, одеялом лунного снега...
Выстуженный дом поскрипывал досками, ветер мешал серый уголь в печи. Приоткрытую дверь раскачивали сквозняки.
Дому было плохо. Теперь он точно знал, что скоро останется один.
Навсегда.
Александр Уваров (С)
#8764 в Мистика/Ужасы
#6735 в Триллеры
#2278 в Мистический триллер
оборотни и жуть, оборотни и другой мир, кошмарные твари
18+
Отредактировано: 30.09.2019