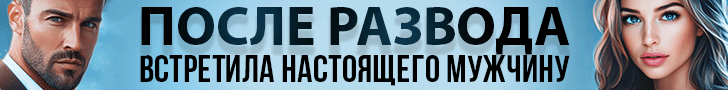Мастер корейской кухни
Мастер корейской кухни
Дед Мороз раздает разные подарки: кому сладости, кому гаджеты, а мне он подарил пару месяцев жизни. То есть сократил ее до пары месяцев, так сказать было бы правильнее. Оказалось, этот старый хрыч добр не ко всем.
До сегодняшнего дня мне не доводилось видеть плачущего онколога, да и вообще, доктора. Я думал, они из железа и камня, как Чак Норрис или истуканы острова Пасхи.
— Саня, ты держись, не теряй надежды, — Ларсен простерла ко мне руки, обхватила, прижала и зарыдала как девочка.
Я вдохнул запах новых духов, почувствовал подрагивающее тело, теплые слезы на своей шее. Их щекотные струйки текли к воротнику больничной пижамы.
Реакция Ларсен напугала меня даже больше, чем слово «неоперабельно».
— Что, на самом деле все так хреново? Это не может быть ошибкой? — я попытался отстраниться, прочесть ответ на ее лице.
Ларсен вцепилась в меня сильнее и зарыдала еще громче — как тогда, когда я впервые бросил ее, студентку, почти целую жизнь назад. Правда, в тот раз она ругалась, кричала, размазывала тушь и кидалась тарелками о стену. Сейчас все происходило спокойнее, мы давно не любовники, годы взяли свое.
— Лариса Михайловна, вас в девятую палату! Срочно! — из коридора прилетел встревоженный голос дежурной медсестры.
— Тебе нет нужды здесь лежать в Новый год, иди домой. Займись чем-нибудь приятным, отвлекись. Позвони мне, когда… если…
Она не договорила. Отстранилась, вытерла красные щеки рукавом, высморкалась в салфетку и ушла с мокрыми глазами, виновато улыбнувшись в дверях. От ее заплаканного вида я и сам чуть не разревелся.
Не теряй надежды… Чтобы не терять, ее для начала надо иметь.
Как-то так получилось, что у меня уже давно не было этой надежды. Finita la comedia. Поезд ушел, не запрыгнуть даже в последний вагон.
Я позвал своего плоскомордого орнитоида, он покорно сел на мое плечо. Мы спустились на первый этаж и вышли на улицу.
Природа разбушевалась. Мокрый снег со льдом бил по лицу наотмашь, жесткий питерский ветер насквозь пронзал куцый больничный прикид. Близился мой последний Новый год.
— Куда пойдем? — голос орнитоида прозвучал слабо из-за ветра и печально, как в доме покойника — он тоже все слышал.
От избытка чувств он слюнявил тонкими нежными губами мои волосы над ухом. Ветер топорщил его перья, толкал, заставлял впивать когти в мое плечо.
Его сочувствие и осторожные прикосновения оказались последней каплей — слезы на удивление легко хлынули из моих глаз, смешались с грубыми шматками небесной слякоти. Погода позволяла не прятаться от случайных прохожих.
— Нажремся, — ответил я, беря себя в руки.
— Бывало и хуже, мы ведь прорвемся? — этот гад решил меня добить…
* * *
Я ввалился в придорожный бар в десять утра как был, в тапках и пижаме, мокрый и продрогший, с орнитоидом на плече. Грузно вскарабкался на стул-насест, оперся локтями о стойку и нетерпеливо воздел дрожащую холодом ладонь.
Седой как лунь бармен-синтетик с жидкой косичкой мигом возник передо мной: полотенце, перчатки, маска с рисунком свиного пятачка, а над ней — почти человеческие глаза в круглых дизайнерских очках без стекол.
— Двойную мандариновую водку, яичницу с беконом.
— Ща будет. Клевый орнитоид, — его улыбчивый баритон звучал мягко, манеры располагали к беседе.
— Достался в наследство, — соврал я.
— Обалдеть. Я таких не видел. Говорящий?
— Когда выпьет.
Бармен развернулся, погладил жирного короткошерстного кота, дрыхнущего на полке среди полупустых бутылок, налил, беззвучно поставил на зеркальную поверхность красного кедра, снял с крюка сковородку.
Бокал грел ладонь и отражал брюнетку, что сидела в метре справа с мертвенно-бледным лицом актера Кабуки. Она держала зеркальце и томно водила помадой по губным имплантам. На ее коленях примостилась собачонка с кривыми зубами, челкой и бешено-тупыми глазами навыкате.
Я выпил залпом, кивнул, бармен проворно повторил.
— Как там? — он посмотрел на дверь.
Я оглянулся. Нет, это он мне.
— Снег и ветер, — пожал я плечами.
— Жена? — он бросил взгляд на пижаму.
— Стационар напротив.
— Ох ты… Вирус? Pardon, если лезу не в свои дела.
— Ничего. Вирус, — вновь соврал я.
Брюнетка хищно улыбнулась, откинула конский хвост и скосила глаза в мою сторону. Ее уродливый друг скалился и корчил рожи.
— Это наверно так ужасно — лежать в окружении стальных аппаратов, бездушных шлангов, бесконечно страдать и думать о смерти? — ее высокий голос резал уши.
— У меня была кнопка с запасом морфина, — вздохнул я, с трудом сдерживаясь, поймал вопросительный взгляд бармена и добавил: — Налей даме чего она хочет.
Мне нестерпимо захотелось ее удавить прямо здесь, на глазах у синтетика и ее четвероногого уродца.
— Мужчина, мне то же самое, — брюнетка капризно потрясла гуттаперчевым пальцем в сторону моей водки и добавила: — А вы крутой и добрый.
Синтетик налил, поставил, вернулся к бекону. Я поднял водку к уху, дал пригубить орнитоиду. Тот увлекся, да так, что его пришлось силой отдирать от спиртного.
— Мужчина, как долго вы страдали в этом адском чистилище? — брюнетка посмотрела на меня с любопытством.
— Неделю. Решил свалить перед Новым годом.
— Я тоже как-то лежала в госпитале, — на ее бокале остался морщинистый отпечаток вечерней помады, — я была после операции. Мне было так романтично знакомиться с парнями, когда я не видела их лиц — всё в бинтах — только прорези для глаз как у египетских мумий.
— У египетских мумий не было прорезей для глаз, — сказал бармен.
— Да ты что? — она удивилась, но спорить не стала. — Я думала были. Для меня это было веселое время. Сейчас все не так, как раньше. Теперь в больницах слишком мрачно и так тоскливо! Хотя сейчас везде голимая тоска...
Дама почесала собачонку где-то сбоку. Та неприветливо зарычала, брызгая слюной и злобно косясь на кота.