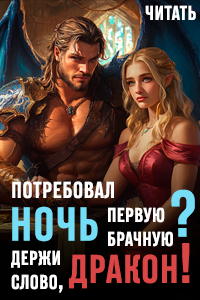Механика хитросплетений
Часть первая
Дмитрий Николаевич уже четверть часа ждал на перроне. Он стоял у стены, чтобы не мешать гружённым багажом носильщикам и новоприбывшим. От локомотива шёл удушливый металлический жар, дымка ещё витала в воздухе. Дмитрий развязал атласную ленту на воротнике рубашки, вынул из кармана часы и миниатюрную записную книжку, сверился с расписанием. Он впервые за последние два года вернулся в родной город, вернулся в костюме иностранного франта, надушенным щёголем. Впрочем, именно что в костюме, а верней, в образе: человек это был довольно грубого телосложения, в нём абсолютно не чувствовалось гибкости, зато за версту разило силой и необычайным здоровьем. Высокий, широкоплечий – ветхозаветный исполин* среди своих собратьев. Лицо Дмитрия было отяжелено широкой челюстью и почти квадратным крупным подбородком, но, если судить в целом, это был молодой и очень приятный мужчина с добрыми глазами и улыбчивый сверх меры.
Дмитрий от скуки постучал наконечником трости по латунному уголку чемодана. Вскоре зазвенел колокольчик, вновь щедро повалил дым, и состав на второй линии тронулся с места, а Дмитрий принялся заново перечитывать письмо друга, Грега Фортресса, единственного англичанина, знакомство с которым во время пребывания за границей принесло ему множество приятных часов и новых идей. Вообще, его путешествие в Лондон вышло если не удачным, то невероятно познавательным. Живой ум Дмитрия всегда тяготел к глобальному, к чему не могла не причисляться железно-медная столица Англии, что укрывалась за камнем от дождей и туманов, – эдакое живое существо из металла и крошечных, но множественных человеческих телец. Грег тепло приветствовал своего русского друга и писал, что остановился в небольшой, но уютной гостинице в Москве, что он ждёт Дмитрия в нетерпении и желает скорее познакомить его с некоторыми своими приятелями, которые не могли не заинтересовать его своими познаниями в физике и химии.
К нему приблизился мужик, вполне привычный взгляду здесь, в этих местах, но вполне опрятный, если не считать окладистой бороды.
– Дмитрий Николаевич, насилу узнал вас, батюшка, пройдёмте-с к машине. Долго ждать изволили?
– Долго, Гришка, долго. Но ничего, поехали-ка, милый, домой. Эх, что за воздух!
Великое счастье патриота – видеть, как родной край становится на одну планку с современными мировыми городами. Рязань растёт, отстраивается, становится крупнопромышленным городом, небо которого полно воздушных кораблей, – гордость всей державы, маленькая страна дирижаблей, но ещё невинно-чистая, хрустально звенящая. Ещё растут деревья вокруг домов и вдоль мощённых камнем дорог, небо ещё синее, ещё виднеется оно меж дымовых труб и их густого серого содержимого, что так и валит вверх, рассеиваясь среди облаков. В Москве или Петербурге такого не найти.
– А что, Гриш, – спросил Дмитрий, устраиваясь поудобнее на кожаных сидениях самодвижущегося экипажа, – много нынче рабочих рук?
– Да-с, батюшка, много мужиков работящих на заводы идут.
Гришка дёрнул рычаг, перещёлкнул кнопками на панели, завертел хитрым аппаратом руля. Машина забурлила своей прозрачной кровью в котле, запыхтела клубами пара и с легким толчком тронулась.
Имение Добролюбовых находилось в некотором отдалении от застроенного города, окружённое старыми садами. Дом предков остался практически неперестроенным, Дмитрий знал из писем – мать по-прежнему не выносила нынешних нововведений и едва терпит тёмные силуэты заводов и весь тот смог, что копится над ними, что уж говорить о летающих аппаратах прямо над головой и изменении собственного дома. Софья Павловна Добролюбова была женщиной традиционных убеждений, этакой матроной со смиренным взглядом и молитвословом в руках, что бредит старой Россией и сетует на позабытые традиции истинно христианского народа.
Встали у ворот. Машина забухтела ещё яростнее и с последним протяжным свистом замолкла. Гришка схватил сильными смуглыми руками багаж, а Дмитрий спрыгнул на землю, жадно вдыхая необычный воздух, – хотя нет, скорее, непривычный: в саду зрели яблоки, эти сладкие плоды детства, времени мечтаний и грёз. Молодой человек едва не прослезился, тронутый воспоминаниями, как никогда яркими.
– Брось у крыльца, Гришка, скажи лучше, а где отец?
– Так-с Николай Андреевич в кабинете, да-с. Велели их не беспокоить.
Но Добролюбов-старший вышел к сыну сам, раскрывая объятья, оглядывая его сперва с трогательной отцовской любовью, тут же сменившейся неудовольствием консервативного пожилого человека. Он закачал головой, нахмурил брови. Добролюбовы были фигурами схожи, только Николай Андреевич несколько уступал сыну в росте, и потому, – только потому, – Дмитрий смотрел на своего родителя сверху вниз.
– Пойдём, расскажи о своих наблюдениях и впечатлениях. До ужина ещё нескоро.
– А где же мать, где Любаша?
– Любу ты пока не трогай, чай, не дурака валяет, а мать... ну что – мать?.. На вечерней службе она. Потом поздороваешься.
За ужином сын восторженно рассказывал отцу о новых друзьях, о Лондоне, об огромных секторах промышленных районов, о небольших современнейших машинах, что несмотря на свои размеры во многих положительных качествах выделялись большей скоростью передвижения, куда большей, чем крупные тяжелые модели в Петербурге. Упомянул о мечте многих и многих: о создании искусственного человека, такой вот машины человеческого вида, что можно наделить разумом и чувствами. По мере того, как он делился с отцом своими идеями, Николай Андреевич всё больше мрачнел, и вскоре глядел на сына уже совсем грозно.
– Это облегчит тяготы производства! Конечно, потребуется много времени и сил, но в Лондоне только об этом и говорят. Ты только представь перспективы таких открытий и новых путей развития!
– Да, а ещё представляю безработицу. Если на смену людям придут машины, люди окажутся не нужны. И что сделают чиновники, – начнут выдавать пособие безработным? Едва ли, – заговорил Николай Андреевич, непрестанно постукивая ногтём по пуговке полосатого жилета. – Дмитрий, ты восторгаешься тем, чем восторгаться не следует. Да и эти... англичане, выдумщики... Не нравятся мне они. Даже французы выглядят куда приличнее рядом с этими хитрецами. Нет, ты послушай меня, не надо перебивать. Англичане большие лицемеры, да, милсдарь, да! Не обманывайся любезными оборотами и этим оскалом искренности. Нас, любого нашего брата, не любят за рубежом. Сильная Россия не нужна никому, англичанам же мы как кость в горле. Я недоволен твоими знакомствами.
– Ты плохо знаешь этих людей. Мой друг, Грег, честен и добр, да он просто рыцарь из старых преданий!
Добролюбов-отец тяжело вздохнул.
– Даже если и есть один такой доблестный человек, Дмитрий, это просто исключение одного большого и мерзкого правила. Надеюсь, ты не обманываешься, мой мальчик, – и он горько покачал темноволосой головой. Затем взглянул на настольные часы и хлопнул ладонями по подлокотникам кресла:
– Сходи к Любе. Уверен, ты хочешь поговорить с ней без строгого материнского надзора. А мы с тобой продолжим после ужина. Ступай.
Едва ли какой брат любил свою сестру так же сильно, как Дмитрий любил Любашу. Это то милое крылатое чувство, что не давало покою душе, а мыслями заставляло возвращаться к перу и листу бумаги, чтобы поддерживать крепчающую связь людей единокровных. Любовь Николаевну нельзя было не любить. Это было существо высшего порядка, ангел нежный, отрада этого дома. Дмитрий встал и поспешил наверх, по скрипящей лестнице. По пути встретил Агафью, что нянчила его когда-то и теперь всецело отдавала себя Любушке, и радостно обнялся со старушкой. И уже в состоянии почти что эйфории (а если бы не предрассудки отца, то оно уже охватило бы его целиком) постучал в дверь и робко заглянул внутрь.
– А вот и я, мой добрый друг!
Если Дмитрий Николаевич вызывал в окружающих бессознательное чувство симпатии, то сестра его, это очаровательнейшее создание, заставляла людей испытывать подъем в душе всего самого человечного, всего самого прекрасного, что только может эта душа вмещать в себя. Будучи невысокой, она казалась миниатюрной, хотя хрупкость её фигуры была обязана корсету под лёгким летним платьем, а вовсе не тонкой кости, но плавные изгибы плеч, мягкие линии рук сглаживали общий силуэт, создавая яркий пример женственности. Счастливо распахнутые голубые глаза, узкий розовый рот и нежный овал лица в обрамлении темного золота волос довершали ее пленительный образ.
При виде Дмитрия Люба всплеснула руками.
– Мой милый брат, когда ты приехал?
Молодой человек подошёл к софе и осторожно отодвинул протез, чтобы усесться поближе к сестре.
– Это та самая новая ножка? – сказал он, наконец прижимая к себе тёплую нежную Любу.
– Одна из. Папенька купил ещё две, ты знаешь, они ровно такие, как я и хотела.
– Не много ли? И все съёмные наверняка. Любонька, не хочешь сделать... операцию?
Она в нерешительности отвела взгляд. Маленькая золотая девочка – калека с детских лет. Дмитрий ещё помнил, как носил её на спине, совсем лёгкую, неспособную передвигаться свободно самостоятельно. У его сестры с рождения имелся уродливый дефект ноги, которую позже удалили из-за начавшего прогрессировать некроза. Милому ребёнку пришлось привыкать к тяжёлому протезу, который всё же был лучше колясок.
– Маменька будет против, – осторожно заговорила Люба, – она не терпит механизаций, да и надо будет тщательнее смотреть за стыком механизма, раз он будет неотделим от меня. И это дорого, мой милый, дороже хоть пяти съёмных протезов.
– У меня есть очень хороший друг, я писал тебе о нём, мы можем сделать что-нибудь совершенно современное. В Англии уже хорошо крепят кисти рук, и они точь-в-точь как настоящие! Очень хорошо двигаются и слушаются, очень удобные.
Он ещё придвинулся, заглядывая в её обеспокоенные глаза, и бедром ощутил острый уголок книги. Он не заметил раньше эти лежавшие рядом с Любой небольшие издания с мелким шрифтом и цветной обложкой. Дмитрий скользнул глазами по заголовкам, бегло просмотрев книги, прежде чем переместить их к краю софы. Под публикацией Карамзина он обнаружил довольно известный роман Мэри Шелли.
– Мне кажется, друг мой, этого маменька тоже не одобряет, – от души рассмеялся он, показывая иллюстрацию с оживлённым механическим человеком. Люба хитро блеснула глазками и улыбнулась той очаровательнейшей улыбкой, какую разум Дмитрия бережно хранил в памяти.
Время застыло в этом месте, будто не было стольких долгих дней в купе поезда, не было серых мостовых и дымного серого тумана. Дмитрий везде видел знакомое и родное, и тем острее было это заново переживаемое впечатление в те моменты, когда молодой человек осознавал: он скоро снова покинет этот дом и эти сады, и старенькую мать, что со слезами жалась к нему, совсем седая и бледная. Вечером прерывался чёрный поток смога, а небо сияло крошечными звёздными крупинками, какие можно увидеть только здесь, в городе небольшом и ещё тихом, не заполненном скрежетом постоянных работ шестерней на раздвижных мостах или протяжным свистом в машинных трубах.
За ужином Дмитрий рискнул просить Софью Павловну и Николая Андреевича отпустить Любу с ним, в Москву, заговорил о возможной операции по вживлению механизма в её тело. На это Добролюбова-мать подняла такой шум возмущения и набожного страха, что Дмитрий Николаевич немедленно пожалел о своём нетерпении и о сорванном мирном времяпровождении всей семьи. Но каково было его удивление, когда Николай Андреевич, успокоив жену и проводив её в опочивальню, отправил Любу проследить за матерью, а потом без объяснений направился с сыном в кабинет.
– А что ты, Дмитрий, говорил, учёный свет Европы собирается в Москве, не в столице? – сказал он, нервно перебирая в пальцах сорванную пуговицу. Сын не узнавал его, всегда непоколебимого, спокойного и величественного.
– Речь и правда шла о собрании в Петербурге, однако самым удобным для всех оказался дом Николая Дмитриевича Брашмана. Он радушно пригласил участников к себе для проведения дискуссий и обмена полученными знаниями во благо мирового просвещения и движения к будущим технологиям.
Николай Андреевич вскочил с места и заходил по кабинету, отстукивая коваными каблуками ботинок по паркету незамысловатый рваный ритм.
– Брашман... Брашман... Перебрался, значит, в Москву, – бормотал он.
– Николай Дмитриевич являет собою почтеннейшего человека, профессора Московского университета. Именно он основал Московское математическое общество.
– А этот твой дружочек, что он? Какими судьбами он оказался в кругу господ-учёных?
– Он является родственником некого Джорджа Кейли, если это тебе о чём-нибудь скажет. Грега очень интересуют инженерные достижения, а я мог бы на правах друга...
– Дмитрий, – вдруг прервал отец сына, – я склонен удовлетворить твою просьбу. Поедешь с Любой, но смотри у меня, хорошенько обустрой её в Москве, выбери апартаменты приличные... Так, иди и извинись перед матерью, скажи, что и думать забыл о своей идее. Любу позови сюда, мне стоит обстоятельно с ней побеседовать.
Дмитрия невероятно поразила резкая перемена в поведении Николая Андреевича, но реакция матери и неожиданное разрешение отца не позволили долго размышлять о природе этого решения. Вероятно, Добролюбов был того же мнения, что и сын, в вопросе замены протезов дочери, своей любимицы. Приняв эту мысль как истину, Дмитрий поспешил к разбитой матери и добрый час выслушивал причитания и наставления, а затем – ужасные библейские пророчества. Но дозволение отца дано, чего ещё желать ему, верному и любящему брату? Дмитрий готов был показать Любаше всю Москву, все её чудеса и достижения, побаловать сестру в неутолённом желании искупить печаль долгой разлуки.
После такого странного вечера Любушка была сама не своя, а сборы были столь всеобъемлющи, что Дмитрий встревожился: с таким грузом они и на Рязанский вокзал не прибудут. Он всячески пытался убедить мать и сестру в своём намерении обновить весь Любин гардероб. Он решил сделать из неё красавицу, звезду, такую редкую для развитых городов искорку с рязанского синего неба. Все московские красавицы будут меркнуть рядом с нею. Люба бледнела и отводила взгляд, в котором чувствовалось волнение или даже страх.
Через неделю приятной духу размеренной жизни Гришка заново заводил машину и грузил в неё два тяжеленных продолговатых чемодана с новыми протезами и совсем небольшой третий, с личными вещами Любы. Софья Павловна заливалась слезами и наказывала Любушке читать все утренние и вечерние молитвы и быть почтительной и робкой. Что до Николая Андреевича, тот был молчалив и серьёзен. Сдержанно попрощался он со своими детьми и велел возвращаться сразу после исполнения всех планов. Гришка проводил их, бережно погрузил ценнейшие чемоданы Добролюбовой в купе и стоял на станции очень долго; брат и сестра разглядывали его удаляющуюся фигуру в окне, а позже Дмитрий рассказывал Любе о модных тенденциях, – о платьях с разрезами, беззастенчиво демонстрирующих ноги почти что до самого колена, о французских нагруженных деталями корсетах, что носили поверх одежды. Обещал, что и у Любоньки вскоре будут все эти чудесные вещи. Добролюбова скованно отвечала скромными отказами.
Настоящей неожиданностью для Дмитрия Николаевича стало появление Грега Фортресса, ожидавшего их прибытия почти с самого утра, хотя в письме он никак не дал об этом знать. Добролюбов представил другу сестру, и заметил, как в глазах англичанина вспыхнули восхищение и удивление, как он любезно начал ухаживать за ней, интересуясь её самочувствием и предлагая свою помощь в качестве носильщика. Это было мило и даже забавно из-за жуткого британского акцента, а Любу такое внимание смущало настолько, что все время, пока они втроем шли от перрона и далее – через здание вокзала, девушка непроизвольно держалась за широкой спиной брата в попытке заслониться. Грег пригласил их в арендованную машину, обещая сопровождать Добролюбовых весь день, и первым, что Дмитрий решил посетить, стал обувной салончик. Выбор такой он сделал намеренно: в процессе примерки, когда молодые люди ожидали Любу за ширмами и обувными стендами, он напомнил своему другу о проблеме его горячо любимой сестры.
– Разумеется, мой друг, – уверил его Фортресс, – я окажу любую посильную помощь, какую только смогу. Ах, я знал, что ты не обманывал меня, но и представить не мог, что твоя сестра так мила! Этот прелестный облик! Это лицо мадонны, невинное и прекрасное!
Дмитрий невольно представил себе возможный союз Грега и Любушки, и ощутил целый вихрь эмоций, самых разнообразных и противоречивых. Люба, тем временем, не имея представления о том, что творилось в его душе, примеряла туфельки, – всякий раз поправляя подъем протеза, выходила из-за ширмы, смущенно приподнимая юбки и демонстрируя изящную обувь на небольшой ножке. За обувью последовали платья, заколки, цепочки, ленты, все эти атласно-блестящие, кофейные, полосатые, цвета ржавчины... Только и успевай хватать! Машина Грега всё полнилась, стремилась прижаться извилистым трубчатым пузом к каменной дороге. В салоне было жарко; они все взмокли в этом царстве духоты, и хоть солнце постоянно скрывалось за свинцовыми выхлопами труб, было невыносимо продолжать покупки и дальше. Люба чувствовала себя ужасно, задыхалась этим промышленным воздухом, а потому молодые люди решили выдержать небольшую паузу и отдохнуть в гостинице, принявшей английских и французских инженеров и механиков.
– А что же научные деятели Германии?
Грег прервался, побарабанил пальцами по туго обтянутому кожей рулю. Они попали в ужаснейшую дымную пробку. Англичанин не любил обманывать. Истинный джентльмен, он кашлянул, отгоняя взмахом ладони облако густого пара, и заговорил тихо и недовольно, всё так же по-нелепому косноязычно, на русском, чтобы не обидеть Любу, с малолетства изучавшую только французский.
– Это досадно, Дмитрий, я не одобряю таких политических игр. Немцы очень упорны, и в этом своём упорстве начали гонку технологий, которая так насторожила Европу и Великобританию, даже далёкую Америку, – в частности, они замахнулись на реорганизацию флота... Мои соотечественники, – ещё тише продолжил Грег, – совсем этому не рады. Германия бросает вызов первенству, если так можно высказаться. И развивает вооружение. Сейчас Германия находится под большим давлением, мировое сообщество ввело множественные запреты. Поэтому на этой встрече не жди фон Майера или Каратеодори. Зато совершенно внезапно прибыли люди, казалось бы, далёкие от науки.
– Кто такие? – Дмитрий чуть привстал и посмотрел вперёд, щуря глаза. – Кажется, постепенно редеют. Скоро двинемся.
– Ты понимаешь, знатные интересующиеся всегда окружали учёный свет, но есть среди них и мерзавцы... Да, вижу... Мисс, потерпите, сейчас качнёт, но мы недалеко уже, – он дёрнул рычаг и обратился к Добролюбову в прежнем тоне, – взять хотя бы этого Тейлора.
– Тейлор? Мне не доводилось ранее слышать этого имени.
– Джон Тейлор. Скрытная личность, крайне неприятная. Его образ мышления... я не преувеличу, если скажу, что его не выносят многие. Я видел его сегодня утром во дворе гостиницы, – ужасное соседство, скажу я вам.
Люба на заднем сидении была бледнее полотна.
– Любаша, не принимай так близко к сердцу.
– Прошу прощения, мисс, вам абсолютно нечего бояться. Для нас будет честью защитить вас от любой угрозы.
Как и предсказывал Дмитрий, дорога постепенно освободилась, утомительное стояние сменилось оживленным движением, а потому очень скоро машина въехала во внутренний дворик гостиницы, построенной из нарядного яркого кирпича и контрастирующих элементов из белого камня, обрамляющих окна и двери, а так же углы здания п-образной формы. Они зашли внутрь, прогибаясь под весом сумок и коробок.
– Ты уверен, мой друг, что мы можем тебя потеснить? Поверь, мне так неловко.
– Мне это вовсе не трудно. Я даже рад вам услужить, вы заберёте это после того, как обживётесь и прочувствуете эту городскую жизнь... Ах, вот этот проходимец... Не будем задерживаться, дорогая мисс, пройдёмте сразу наверх.
Тейлор беседовал с каким-то пожилым господином в лобби, сжимая в руках свой высокий цилиндр с повязанной у основания атласной алой лентой, изумительно яркой. Любовь Николаевна до того разволновалась, что стала заметна её слегка неестественная походка, – обычно она была очень осторожна и двигалась медленно, но изящно, никто бы и подумать не мог о протезе под пышными юбками. Теперь же ритм сбился, она шла, чуть припадая на одну сторону, и был отчетливо слышен тяжёлый стук металлической ноги по ковру. Грег провёл их по коридору, что распахнутыми окнами выходил во дворик. Быстро темнело, и уже зажигали фонари, хотя час поздним не был. Любовь Николаевна, смущенно-тихая, попросила принести один из протезов – крепление старого приносило ей мучение.
В лобби Тейлора друзья уже не встретили.
– А что же здесь так пусто, мой дорогой Грег? Ты говорил, вы поселились тут почти что всем своим сообществом.
– Старые джентльмены заперлись в своих комнатах или гуляют по вечерней Москве. Наверняка кто-то уже даже лёг спать.
Они забрали ещё несколько коробок со шляпками, прежде оставленных в холле, самых объемных и громоздких, принесли Любушке указанный протез и тактично удалились, позволив ей в уединении окончить замену. В коридоре ещё было темно, но на улице Москва разгорелась огнями, запылала, освещая своё нутро. Молодые люди не спешили подниматься наверх, выжидали время, прихватив ещё объёмную коробку с нарядным платьем, последнее, что решили оставить Фортрессу. Говорили о грядущем вечере, о людях, что непременно будут, и о тех, кто присутствовать не сможет.
Друзей прервал странный хлопок, совсем негромкий, но неестественный. Сперва они не придали этому значения, но позже раздался истошный женский крик. Они, взволнованные, забежали внутрь, прислушались. Крик женщины оборвался, но тут же сменивший его ропот множества встревоженных голосов заставил их повернуть в противоположное от комнат Грега крыло. В открывшемся их взорам коридоре несколько человек, держа зажжённые канделябры, склонились на телом, нелепо распластавшимся на ковре.
Они подошли ближе к столпившимся людям и узнали в убитом Тейлора. Часть лица мужчины была жутко изуродована, по двери и стене стекали небольшими струйками кровавые кляксы. Рядом с телом лежал несчастный истоптанный цилиндр с яркой алой лентой.
#1426 в Детективы
#61 в Исторический детектив
#2334 в Фантастика
#191 в Альтернативная история
Отредактировано: 15.01.2018