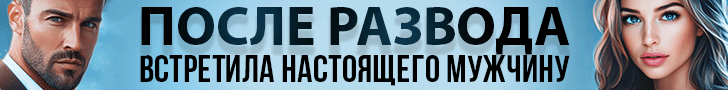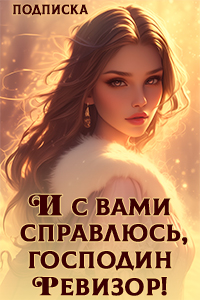Месяц светит, мёртвый едет
Часть первая: Кася. Глава первая: Гадание
I
Было это давно.
Стоял город на реке, богатый город, торговый, люди в нем жили хорошие, веселые, не склонные ни к злословию, ни к зависти, ни к темному колдовству. Женились по согласию, детей растили в любви, ни перед земным князем, ни перед небесным не имели вины.
И жил в том городе купец. Богатство свое добыл он умом и трудом, а не как иные купцы, злой хитростью. Лишнего не брал, легких денег не искал, в казну платил исправно и храму подношения делал щедрые. Но не чтобы люди смотрели на это и думали “вот так Томаш, как же он богат!”, а потому что знал, что такое голод и холод. Потому, наверное, и везло ему: и в делах везло, и в любви повезло, и дом был его крепок, и семья — любящей.
Было у купца три дочери: старшая — Маржанка-умница, средняя — красавица Милослава, и младшая, Касенька — и умница, и красавица, радость отцовская на старости лет. Больше детей бог не дал им с женой, и любили они Касю сильно, как любили бы сына-наследника, за всех нерожденных, за всех умерших своих младенчиков.
Все, за что ни бралась Кася, шло у нее легко, а она нос не задирала — делала и делала, на радость родителям и добрым людям. Кого не спроси, любой скажет, что Катаржина, Томаша дочь, нравом легка, лицом светла, а смеется — как серебро звенит. Коса у нее была темная до пояса, кожа белая, глаза ясные и смотрят ласково — в общем, все Касю любили.
И сестры тоже, будут иное говорить — не верьте.
Не было между ними сестринской зависти. Родительской любви на всех хватало, а раз ни отец, ни мать между детьми не плодят раздора, то и дети не будут друг с другом ссориться. Были обиды, конечно, но проходили быстрее, чем высыхали слезы. Маржанка брови хмурила порой, но на то она была самой старшей, чтобы хмуриться и головой качать. И женихов сестры не делили никогда, знали, что каждой достанется хороший муж — и богатое приданое.
Маржанна выбирала разумом и все выбрать не могла. Мила — искала кого по сердцу, чтобы оно замерло, и немало парней завернула от крыльца, не любы были, смотреть на них не хотела. А Кася смеялась и говорила, что как сложится — так сложится, не надо судьбе мешать.
А судьба, видать, слушала, вилась ниточка, ложилась в узор, и когда пришло время — влюбилась Кася, родителям на горе, себе на беду.
Хотели сказку — будет вам сказка, и в сказке будет свадьба, похороны и превращения разные. И звери говорящие, и черти, и колдуны. Но сказка — она добрая, даже когда кусается, и добром закончится. А в жизни все так, да не совсем: ходят радость и горе под ручку, рядышком, одно без другого не сбудется, не исполнится. Тут убыло — там прибыло, тут новая жизнь родилась — там старая закончилась, и так до тех пор, пока мир стоит.
Вьется нитка, ложится в узор, ночь темная над миром летит, морозные узоры на окнах невиданными цветами распускаются. Светит месяц, острым рогом облака колет, снег искрится на полях, и бежит дорога от города далеко-далеко. Мертвец по той дороге едет, красну девицу везет.
***
Отец привез Касе платок, алый, узорчатый: были на нем цветы и птицы. Красивый такой платок, яркий, как грудка снегиря. И теплый. В него-то Кася и закуталась, когда собралась с сестрицей на гадания.
У Милы тоже был новый платок, белый с алыми узорами, тоже красивый, но на Касин она смотрела во все глаза, с легкой завистью. И подначивала, хитро улыбаясь:
— Ни у кого такого нет во всем городе, то-то Василинка злится, как тебя видит!
Глаза Милы при этом горели радостью.
— Так я ж не чтобы Василинку злить, — отмахнулась Кася, любуясь на себя в зеркальце на стенке: маленькое, только-только лицо рассмотреть, в деревянной раме, оно тоже было отцовским подарком для сестер. Одним на всех. — Я для себя.
— Ври-ври больше, — отозвалась Мила, но Кася лишь отмахнулась.
Алый был Касе к лицу, он делал кожу белее, глаза ярче. Вот прихватит мороз щеки — и они заалеют. Хотя в темноте-то никто и не увидит.
Стояла Святочная неделя и холодно было настолько, что иней налипал на ресницы и брови. Кася вышла за Милой во двор и выдохнула через рот, медленно, чтобы разглядеть, как дыхание превращается в пар.
На западе тонкой алой линией тлел закат. Небо было — как платок Маржаны, темно-синий, с красной нитью по кромке. Изжелта-белая луна поднималась от его края, мерцали первые звезды. В густеющих зимних сумерках раздавались голоса, смех, музыка, кто-то переругивался. Пахло дымом, брагой и пирогами.
Снег поскрипывал, пока Мила с Касей, хихикая и подшучивая друг над другом, шли по деревянному настилу.
Сердце стучало быстрее, чем обычно, и предвкушение горячило кровь.
Гадала Кася не впервой: уже четвертую зиму как брали ее сестры на святочное баловство: девицы то отливали воск, надеясь рассмотреть в его застывших каплях свою судьбу, то замирали, пока пестрая курица, пущенная в избу, деловито примеривается к кольцам, рассыпанным по полу вместе с зерном. Самые смелые ходили в баню заполночь — и с визгом бежали оттуда, заслышав голоса и грубые песни.
Маржанка, засидевшаяся в девках и слишком уж важная, конечно, говорила, что парни пугают, смеются, а они, дуры, верят, и так оно, наверное, было, но гадать было весело — и Кася, как другие девушки, верила и воску, и курице. Правда, о ней они пока не говорили ничего толкового.