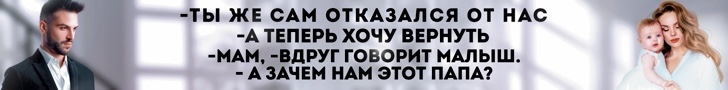Мимолётность
Глава 2.
Не в кроне суть, а в правде корневой;
Весною глупой юности моей
Хвалился я цветами и листвой;
Пора теперь усохнуть до корней.
У. Б. Йейтс
Двенадцать лет. Их составляли неисчислимо долгие года, растянутые в бесконечности. Именно столько зим он пережил в уединённом покое и молчаливой аскетичности древнего храма. Какое же удивительное число! Он ясно видел всю сакральную категоричность и решительность провидения, не допускающего ни трусости пред грядущим, ни нынешней слабохарактерности. В тихие моменты дня, стоя, как и сейчас, у одного из высоких арочных окон, украсивших весь периметр основной башни, глядя с её высоты на суетный ритм небольшого города, раскинувшегося среди цветущей долины, он непременно чувствовал пока ещё слабые отголоски надвигающихся перемен. “Что-то грядёт”, — думалось ему, и вместе с этой страшной из-за своей неизвестности мыслью его прошибал холодный пот.
Последняя четверть его жизни мало что изменила в привычках и моральных устоях. Образ мышления лишь претерпел некоторые изменения, да и они были чем-то напускным и недолговечным, мгновенно ломающимся, словно хрупкая скорлупа, от пучины былых воспоминаний. Воспитанный в лучших традициях дворянских семей, избалованный прихотливой судьбой, этот человек, ещё будучи юношей, во всем искал символы и двойное значение, что часто становилось причиной неловкого положения среди ханжески настроенного аристократического общества. Нет, это совсем не определяло его святость и какое-либо душевное благородство. Напротив, легкомыслие промелькнувшей молодости порой обескураживало даже его, а список серьёзных проступков и тяжких грехов едва ли мог уместиться в границах одного из ветхих томов, наполнявших богатую монастырскую библиотеку.
Прошедший суровую школу университета Буржа, стареющий мужчина оживил в своей памяти все мыслимые и воображаемые ассоциации: и вавилонские записи о двенадцати зодиакальных созвездиях, и традиционную численность бессмертных олимпийцев, и первейший свод законов непобедимого города на семи холмах, и дочерей последнего троянского царя, описанного Гомером.* Он припомнил стройную гармонию великих творений Фидия*, их одухотворённую монументальность, и тут же в мыслях перескочил на образ громадных жертвенных алтарей, воздвигнутых на пологих берегах Гифасиса, спасшего некогда своими бурными водами мудреца от неминуемой гибели.*
Яркость тех минувших дней в главном городе Беррийского герцогства так и не померкла после всех несчастий и напастей, свалившихся на него после поспешного бегства из родного дома. Знал ли он тогда, что всё его счастье едва ли уместится в тесных рамках короткого, но упоительного года? Изменил бы он своё решение, если бы ему открылось истинное обличие благоверной избранницы? Эти вопросы не единожды мучали его во мраке бессонных ночей или сумраке туманно-вялых дней. Только сейчас он почувствовал веяние свежести, попытку пробудиться от долгого полезного сна, лечившего душевные раны исполненными бездействия годами.
Мужчина снова напряг многострадальную память, но все более поздние изыскания были поддёрнуты сонной пеленой, прозрачной и белой, сквозь которую еле угадывался силуэт минувших лет. Он припомнил и апостолов от двенадцати, и эдемское древо с его пленительными плодами, и потомков сына Ревекки.* Впрочем, последние ассоциации не вызвали никакого отклика в его душе и, смутно мелькнув в пространных размышлениях аббата, тихо и незаметно исчезли. Он с удивлением подумал, как же мало истинного в этих образах! Сплошное пустословие. Правы были древние, когда связывали число с материальностью, с движением, порождающим жизнь, исключая все те бессмысленные и совершенно беспочвенные рассуждения, что столь заполнили нынешнее время!
— Пустословие? — пробормотал он в недоумении, а его голос, обычно звучный и властный, мгновенно потонул в оглушающей тишине башни. — Откуда эти мысли? Нет, прочь! Я не позволю минутной слабости повлиять на мою волю. Долой пагубные размышления! Как же, как же там было? А, вспомнил: во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь.* Да, кажется, там было именно так.
Сухие пальцы нервно сжали фигурную решётку окна, а на бледном лице с удивительно правильными и благообразными чертами беспокойно заблестели глаза. Что-то не давало ему покоя, какая-то смутная мысль неотступно преследовала его уже вторую неделю. Он судорожно передёрнул плечами и резко обернулся, всматриваясь в тёмный провал уходящей вниз каменной лестницы. Ему показалось, что чьи-то тени пляшут прямо за его спиной, подходя с каждым днём всё ближе, танцуя всё неистовее, злее. Тени ли прошлого, тени ли будущего, но ясно одно: время подходит к концу. Пора.
Чувство предельного напряжения стало понемногу отпускать его, уступая место привычной за последние годы пустоте. Скрученные в судороге пальцы медленно разжались, отпуская тёмную холодную медь, а грудь задышала исключительно размеренно и неторопливо. Что со мной творится? — снова в тоске подумал немолодой аббат. И как же раньше было просто: тебе говорят, а ты только запоминай и принимай на веру без лишних вопросов. Какое поразительное забвение собственного разума! Нет, прочь, прочь, неугодные мысли!
Последние попытки ухватиться за ускользающее равнодушие и беспамятство стали практически бесполезны. Это пугало и тревожило. И казалось, что виновато одно только это навязчивое число, преследовавшее аббата изо дня в день в сумрачную пору этого длинного августа. Оно соединяло воедино импровизированную вереницу университетских и аббатских воспоминаний. Оно навевало смутное беспокойство и трепет, беспричинное отчаяние и отвратительную мерзлоту. На толстой скорлупе появились трещины, и с каждой секундой они расползались дальше и шире, предрекая неизбежное и скорое падение всех защитных стен, за которыми скрывается та, прошлая жизнь, некогда погребенная под осколками разбитых иллюзий.
Предчувствие мучило и терзало. А всё потому, что двенадцатый год добровольного заточения в душных монолитных стенах аббатства подходил к концу.
Бам! На третьем ярусе высокой цилиндрической колокольни плотный и косматый звонарь повис на тяжёлом десятитонном колоколе, отчего тот медленно и неповоротливо закачался, постепенно расширяясь до тех пор, пока влажный утренний воздух не раскололся под оглушительным раскатом звучного баса. Гул поплыл гонимый ласковым ветром по направлению к городу, рассекая бархатную синеву и сизые туманы, долетел до ближайших ворот, настойчиво требуя внимания к себе нестройной толпы спешащих учеников, и плавно иссяк, затерявшись среди островерхих крыш затейливых ремесленных домов.
— Вот бездельники! Снова опаздывают! Прошлое внушение так ничему их и не научило! — в сердцах воскликнул мужчина, как только заметил бегущих по протоптанной дороге детей. — А, впрочем, о чём им думать, в их-то годы? К ним ещё не прилипла всякая грязь этой бесполезной жизни. Но что-то они даже слишком веселы: бегут вприпрыжку и кружатся вокруг одного места, словно стайка вертлявых пичужек.
Он прищурился, силясь разглядеть лицо более старшего юноши, вокруг которого стараниями дюжины непоседливых ног поднялось небольшое облако пыли. Над худыми выступающими скулами у самых глаз протянулись сети глубоких морщин, свидетельствующих и об утраченной молодости, и о лишениях последних лет, и о разочаровании и, наконец, о тяжких непрерывных думах.
— Неужели же это Луи? Каков наглец! Заявляется спустя неделю бессовестных пропусков с опозданием на час, да к тому же ещё с личным эскортом восторженных поклонников, точно лучезарный и подозрительный наш Людовик.*
Хм, подумал он, а ведь и правда есть между ними сходство. Тонкое и неуловимое сначала, но сразу бросающееся в глаза при ближайшем рассмотрении. Одна страсть, как одна тайна, гложет их. И если сильные мира сего успешно скрывают свои тёмные и нелицеприятные стороны, то на лице пылкого юноши можно прочитать почти все самые сокровенные мысли, и не нужно обладать при этом даром пророка или ясновидящего. Ох, и намучился же он с ним за последние годы! Этот мальчик рос на его глазах, иногда пропадая из виду, но всегда возвращающийся, за что стареющий аббат был очень признателен, хоть и пытался это скрывать даже от себя.
Мужчина смотрел на окружённого слепым вниманием юношу и видел в нём себя, такого молодого и юного, беззаботного и весёлого, жаждущего наслаждений и срывающего самые сочные плоды разнузданной жизни. Служивший долгие годы в королевской гвардии, он был довольно близок и к самому королю, отчего смог составить свой собственный портрет первого сюзерена страны. И одна из самых сомнительных черт Луи была, несомненно, как родная сестра похожа на главный порок короля. Мужчина и не обратил бы на это внимание, но он слишком часто сталкивался за свою долгую и непростую жизнь с последствиями этой пагубной страсти. Кроме того, он испытал всю тяжесть мимолётной прихоти впоследствии на собственной шкуре.
Но, что ещё более удивительно, этот непостоянный юноша, будущий наследник старейшего и опытнейшего кузнеца этого города, бич всех молоденьких и, конечно, хорошеньких девушек, зачинатель всех возможных и абсолютно безумных приключений и развлечений, сочетал в себе качества, присущие и непримиримому врагу Людовика — бывшему графу де Шароле.* Неистовый и безрассудный в честолюбивых юношеских порывах, отчаянно храбрый и решительный, он, всё же, всегда имел при себе запасной план и приберегал пути отступления. Как бы изумились два амбициозных лидера, если бы когда-нибудь встретились с этим ловким прохвостом! Казалось, что два непохожих, как день и ночь, характера объединились в одно целое и не только не обнаружили противоречия, но и не нашли нужным возмущаться по этому поводу, справедливо решив, что худой мир лучше доброй ссоры.
— Воистину, поразительный характер! — снова пробормотал мужчина и, взмахнув широкими полами чёрной шёлковой сутаны — одно из последних доказательств его былого богатства, — твёрдой и уверенной походкой направился вниз по каменным ступеням встречать нерадивых учеников строгостью веских и обличительных слов, которые, впрочем, выходили гораздо более мягкими, чем желал аббат. А вот от пронзительного взгляда его тёмных, повидавших жизнь во всех её проявлениях, глаз многим людям хотелось убежать если и не на самый край света, то хоть вон в тот самый недалёкий Бурж. Нет, понимал мужчина, не для того он здесь, чтобы отчитывать чужих детей, но видимость участия соблюдать следует.
Так что, глубоко вздохнув с тяжёлым присвистом, он и далее продолжил свой спуск со смотровой башни.
— … а она ему прямо с порога и говорит, что видела жену его прямо пред алтарём, где она якобы всю ночь и провела! И что вы думаете? Они вдвоём идут в монастырь, а там и правда бедная жёнушка лежит, замёрзшая и грустная. А эта сводница тут ещё и о епанче* разговор завела, о той самой, что и посеяла сомнения у ревнивого мужа: у вас, говорит, оставила нынче. Тот бежит домой и, к ликованию своему, находит старухину епанчу вместе с забытым в ней игольником. Клянусь небом, это же гениально! Вот так сводница! И муж в дураках, и влюблённые счастливы! — мужчина узнал в звонких и ясных интонациях голос Луи, который, не скрываясь, в полную силу рассказывал очередную басню из своей весёлой жизни.
— Вот так история! Но как ты смог делу помочь? Не слышал слов о твоём собственном участии. Что-то ты выдумываешь, друг мой, или воображение занятных, но неправдоподобных историй входит у тебя в привычку? — чей-то тонкий и неокрепший голосок решил, видимо, поставить под сомнение авторитет их лидера, нарочно придав своей речи скептицизм и некоторую снисходительность. Не успел он закончить предложение, как третий голос взялся урезонивать внезапного бунтовщика, льстиво обращаясь к нахмурившемуся Луи:
— Выдумка это или нет, но в любом случае рассказ твой позабавил и рассмешил, а тем ханжам, которые гонятся за правдивостью, стоит не высовывать нос из аббатской библиотеки.
— Кого это ты ханжой назвал?! Твоё счастье, что мы находимся на священной земле, иначе сам святой Губерт тебя не спасёт, на коего ты привык так часто полагаться!
— Меня это не остановит! Хочешь справедливого и честного боя — моя шпага уже ждёт тебя! — гневно воскликнул мальчишеский голос фразой, явно услышанной на турнире от какого-нибудь честного рыцаря, коих осталось совсем не так много на разорённой войнами земле.
Шум усиливался, разрастаясь в широких стенах и уходя ввысь мощным эхо. Несколько оставшихся после заутрени горожан с немым укором смотрели на разбушевавшихся школяров, которые подняли невообразимый гвалт в таком священном месте. Одна свирепого вида корпулентная женщина, подобрав полы широкой суконной юбки, с надменным и презрительным лицом молча прошла мимо них к выходу, что не помешало ей на секунду остановиться около разгоравшейся ссоры и громко фыркнуть, тем самым, видимо, выразив своё отношение к происходящему.
В этот момент, подобно вечернему солнцу, выглянувшему из-за кромки серых туч, в тени арочной ниши показался высокий стройный силуэт мужчины, спустившегося вниз со смотровой башни, чтобы поприветствовать опоздавших строгим наставлением. Внезапно вспыхнувшая между детьми ссора отнюдь не улучшила их и без того печальное положение, но навлекла, быть может, ещё более строгий выговор и новые неприятности на их маленькие и легкомысленные головы.
В груди аббата зрело глухое раздражение, отчего над его переносицей залегли две глубокие складки, придавая худому лицу суровую мужественность и непреклонность. По обеим сторонам небольшого широкого притвора, отделяющего главный вход аббатства от пространства внутреннего зала, высились каменные изваяния почитаемых святых и грациозно изогнутых ангелов, искусно выполненные руками неизвестного мастера и дарованные аббатству в памятные времена окончания долгого строительства храма. В эту минуту мужчина как две капли воды был похож на одно из этих холодных древних изваяний. Возможно потому, что сердца их объединяла единая сущность: пустота безучастного мёртвого камня.
Его чёрная фигура плавно выплыла из сумрака ниши и почти вплотную приблизилась к шумной толпе, где двое ребят уже схватились за короткие охотничьи кинжалы, готовые без раздумий пустить их в ход.
— Надеюсь, вы все хорошо повеселились, поскольку всё ваше время до захода солнца сегодняшнего дня будет всецело подчинено аббату Картелю, который будет, конечно, подробно извещён об утреннем инциденте, уж я об этом позабочусь. А ваше оружие, полагаю, недостойно обнажать в святых стенах прямо на виду прихожан, которые пришли в храм насладиться кратким покоем и божественным созерцанием, а получили вместо этого очередную порцию брани и жестокости, — фразы будто вылетали резкими и колкими толчками из самого сердца мужчины. А его низкий бархатный голос вкупе с манерой предельно чётко проговаривать слова производили эффект подобный внезапному грому среди ясного неба.
Дети застыли от неожиданности в прежних воинственных позах. Покрытое мелкими веснушками лицо того мальчика, которого нагло обозвали да ещё и вызвали на бой, побледнело, отчего нос и пухлые щёки показались покрытыми чёрными точками, точно звёздами, а с его губ сорвалось лишь жалобное и протяжное “отец Альберт”.
— Вы всё ещё здесь? — преувеличенно удивлённо спросил аббат, приподняв красивые густые брови. — Кажется, вы и так достаточно опоздали, не стоит и дальше испытывать судьбу: она не всегда бывает так благосклонна, как сейчас. В любую минуту здесь мог пройти настоятель, а уж он, как вы знаете, далеко не так мягок к нарушителям. Кстати, к вечеру я буду ждать письменные объяснения на латыни от каждого из вас. Можете передать их через отца Лорана.
В ответ ему ребята дружно склонили головы в глубоком почтительном поклоне, пробормотав невнятно извинения, и тотчас же перед мужчиной уже мелькали быстро удаляющиеся вихрастые макушки, спешащие в учебный корпус аббатства, где проходили все занятия.
— Останься, Луи, — кратко бросил Альберт уходящему юноше.
В зале аббатства всегда было прохладно, даже в самый погожий день лета, а из-за практически отсутствия витражей пространство наполнялось мутным неверным светом, пробивающимся сквозь сводчатые отверстия и узкие высокие оконца. Единственным освещением служили десятки зажжённых толстых восковых свечей, отбрасывающих мимолётные тени на шероховатые стены. Камни дышали древностью, но неутомимо источали холод и сырость. До чего же неуютным казалось помещение!
Мужчина передёрнул плечами и решительным шагом направился к выходу в клуатр, резной колоннадой обрамляющий внутренний сад, где среди густых зарослей тиса скрывался низкий колодец из дубового сруба и деревянные скамеечки вокруг него, обещающие уединённое отдохновение.
Юноша в растерянности замер, не зная, как трактовать поведение наставника, но отец Альберт кивком головы пригласил следовать за ним, и Луи, отбросив сомнения, поспешил догнать высокого мужчину, который уже поворачивал в крытую галерею.
Как только они вышли на свежий воздух, лицо аббата просветлело и расслабилось. Он от всей души наслаждался редкой лаской солнечного тепла, что мгновенно привело его в благостное расположение духа. Глубоко вдохнув утреннюю свежесть, он размеренно и неторопливо пошёл вдоль галереи, благодушно поглядывая на Луи. Видя, как к его старшему спутнику возвращается человечность, юноша и сам про себя вздохнул с облегчением, наконец, убедившись, что ни выговора, ни более строгого наказания ему не грозит, и раскованно, впрочем, не теряя почтительности, следовал за ним.
Некоторое время прогулка проходила в уютной тишине, прерываемой лишь писком вертишеек да стрёкотом цикад, затем мужчина тихо, словно разговаривая с самим собой, сказал:
— В последнее время городские слухи достигли не только стен аббатства, но и почти вплотную приблизились к ушам настоятеля. Конечно, людская молва способна исказить даже самые обычные и незначительные факты, но, тем не менее, я склонен думать, что большинство из рассказанного мне содержит часть правды. И эта часть совсем не так мала, как кажется на первый взгляд.
— Не думал, что вы обращаете внимание на досужие сплетни, отец Альберт, — незамедлительно ответил Луи, воскликнув про себя “так вот о чём он хотел поговорить!”. — Поверьте, моё поведение не переходит известные рамки приличий, а совесть так же чиста, как у новорождённого младенца. Клянусь мощами святого Аркадия, что честное имя моего отца не будет запятнано!
Мужчина лишь усмехнулся на такое заявление, которое могло бы показаться высокомерным и даже лицемерным, только если оно не исходит от гордого и пылкого юноши, жизненные силы которого льются через край, а горячность молодости придаёт особый смысл даже ничего не стоящим пустякам.
— И всё же, я считаю своим долгом предостеречь тебя, — продолжил аббат, остановившись в конце галереи и внимательно вглядываясь в по-юношески привлекательное лицо Луи. — Проступки юных лет могут преследовать всю оставшуюся жизнь, ибо память неистощима и беспощадна. Прислушайся к моим словам, Луи, запомни их и повторяй про себя во время увлекательных приключений и увеселительных забав, пока их горечь не дойдёт до затуманенного чувствами разума и вовеки не очистит его.
Мягкий голос и снисходительно-поучающий взгляд говорили об участии в жизни кареглазого юноши. Казалось, перед ним стоит не строгий и непреклонный аббат, гроза всех нерадивых учеников, а старый друг, почти отец, желающий помочь преодолеть сложный путь взросления, вразумить непослушного сына. Его заботы и беспокойство находили благодарный отклик в душе Луи, поэтому именно с отцом Альбертом он ощущал внутреннюю свободу и естественность общения, гармонично переплетающиеся между собой.
— Благодарю вас за заботу, отец Альберт, но вам действительно не о чем беспокоиться, — твёрдым и уверенным голосом молвил Луи, отвечая аббату прямым честным взглядом. — Я никогда не возьмусь за дело, не будучи уверен в удаче и положительном результате. Не настолько уж я безрассуден, как вы думаете. Не о чем вам беспокоиться, не о чем.
От мужчины не скрылось это упрямое повторение, за которым, несомненно, скрывалась неуверенность юноши, желание внушить слова самому себе, искренне поверить в них. Он ободряюще положил руку на его плечо, отстранённо подумав, что Луи недостаточно физически развит для своих лет, а его острое худое плечо с лёгкостью умещается в широкой ладони. Так ли уж он силён и храбр, как показывает остальным? Сколько слоёв притворства и лжи, словно защитной брони, сколько напыщенного бахвальства и показной самоуверенности нужно снять, чтобы увидеть настоящего Луи?
Невольно в голове аббата всплыл образ другого юноши, который дни и ночи просиживает в скриптории*, поучаясь высокой мудрости, слишком сложной для таких молодых лет. Но сравнение двух таких разных людей было настолько абсурдным, что мужчина поспешил отогнать от себя образ другого ученика, сосредоточив внимание на том, кто всегда нуждался в поддержке и понимании, но был слишком горд, чтобы признать это. Продолжать навязывать своё покровительство было бессмысленно, так что мужчина, грустно усмехнувшись уголками тонких губ, отечески потрепал густую вихрастую чёлку Луи и дружески пожурил его:
— Эти дети, окружившие тебя утром, ещё слишком малы для твоего общества. Твоё присутствие пагубно влияет на их хрупкие неокрепшие умишки, поскольку они, словно верные кони, готовы по первому зову следовать за тобой в огонь и воду, не осознавая предел и скудость своих сил. Возможно, ты преподашь многим из них хороший урок, но всё же, дружок, не рискуй с ними понапрасну. Их желания пока несоразмерны с их способностями. А сегодняшнее утро, к тому же, показало, насколько сильны в их душах глупое безрассудство и изменчивая преданность. Следи за ними, пока они рядом с тобой, и остерегай, не то придётся вам устроить массовое хождение в Каноссу.*
Юноша смущённо потупился, но лукавые взгляды, непрестанно бросаемые им из-под опущенных ресниц, выдавали с головой всё его притворство. Но, несмотря на искренность и теплоту общения, в глубине души Луи спрашивал себя: “Как долго будет длиться расположение влиятельного аббата к сумасбродному юнцу, не отличающемуся ни знатностью, ни прилежанием, ни склонностью к учениям религии? ” В чём же настоящая причина его отличия перед остальными? Недолговечная прихоть одинокого стареющего мужчины, с горечью думал Луи, но эти размышления не мешали ему наслаждаться свободным от условностей общением, исключающим ложь и притворство.
Иногда он любил насмешливо сравнивать себя с фаворитами и приближёнными королей, о которых он немало узнал во время буйных продолжительных пирушек в одной из дальних таверн города, где часто останавливались бродячие рыцари и подозрительные люди, путешествующие инкогнито. Впрочем, Луи сразу различал членов разбойничьих шаек или скрывающихся отпетых преступников среди простых опустившихся бродяг, что часто спасало его от многих неприятностей весьма опасных для жизни. Иногда какой-нибудь бывший лучник, не отличавшийся благородным происхождением и некогда избавившийся от протекции короля путём бегства и грабежа, рассказывал о сложных переплетениях придворных взаимоотношений, о скрытых во внутренних покоях дворцов трагедиях и о тревожном непостоянстве деспотичного правителя. Из его рассказов, изобилующих вульгарными подробностями и двусмысленными комментариями, Луи вывел для себя одну истину: недолговечна благосклонность власти, и в следующую минуту золотой поводок может обернуться тугой смертельной петлёй, крепко затянутой на шее.
Такие размышления не раз волновали цепкий ум юноши, но сердце не хотело верить в вероломство единственного человека, пытавшегося понять и на свой лад помочь ему.
— Думаете, меня устрашит показное покаяние? К тому же, имея рядом парочку верных друзей, любой даже самый долгий путь покажется лишь мимолётной дорогой увлекательных приключений. Однако я вынужден признать вашу правоту, отец Альберт, общество этих неоперившихся птенцов едва ли доставляет мне радость и тешит моё самолюбие, — проговорил юноша и хитро прищурился. — Стоит ли мне воспринимать ваши слова как одобрение моих других старших знакомых и товарищей вне божьей обители?
— Клянусь святым крестом, твоя наглость не знает границ! — расхохотался аббат, чуть запрокинув голову. Его громогласный смех эхом разнёсся по длинной галерее, заполнил все уголки и ниши и развеялся среди раскидистой зелени сада. Солнце ослепительно сияло в самой вышине цветущего синевой неба, озаряя жарким блеском мрамор низкой балюстрады, отчего на широких каменных плитах галереи возникли длинноногие тени, похожие на костыли или ходули.
Мужчина успокоился, изредка позволяя себе добродушную усмешку, будто удивлённую нахальством юного создания, и продолжил снисходительным тоном:
— Вот что, дорогой дружок, мне не помешает небольшая помощь в скриптории. Наш юный мудрец далеко продвинулся в изучении комментариев Фомы Аквинского и дошедших до нашего аббатства рукописей епископа д’Альи*, но мне нужны дополнительные руки в переписывании некоторых ценных бумаг. Я помню, что искусство каллиграфии отличает тебя от других учеников, больше занятых содержанием, чем формой, в гонке за которой ты убежал за много лье даже от самого искусного мастера в этом городе. Надеюсь, ты помнишь дорогу, поскольку настоятель требовал от меня обязательного присутствия при встрече неверского посла, который должен прибыть в полдень. До встречи, Луи. Юный Ганс объяснит тебе твои обязанности на сегодня. Да пребудет с тобой благословенный свет разума святой Клотильды!
Луи почтительно поклонился, радуясь такому заданию, избавляющему его от тягот учебных и богословских изысканий. О таинственном Гансе аббат нередко рассказывал ему, как о незаменимом и чрезвычайно учёном мальчике, нелюдимом и пропадающем в недрах старинной монастырской библиотеки. Любопытно было бы познакомиться с ним, подумал юноша и вдруг вспомнил, что к его утреннему опозданию добавилось время прогулки с уважаемым им аббатом. Конечно, его это не сильно заботило или волновало, но кто знает, какими новыми неприятностями это может ему грозить?
— Ах да, опережая твой вопрос, который, как я вижу, уже готов сорваться с твоего языка, я добавлю, что отец Стефан лично от меня получит объяснения по поводу твоего сегодняшнего отсутствия, — успокоил он юношу, который уже вопросительно приподнял свои чудные густые брови. — Счастливо вам поработать, а я присоединюсь к вашему святейшему труду после аудиенции.
С этими словами аббат отпустил Луи, напоследок осенив того крестным знамением и долго-долго глядя ему вслед до тех пор, пока синяя бархатная курточка юноши не скрылась за ближайшим поворотом.
#6305 в Проза
#179 в Исторический роман
#2687 в Разное
#442 в Приключенческий роман
Отредактировано: 27.05.2016