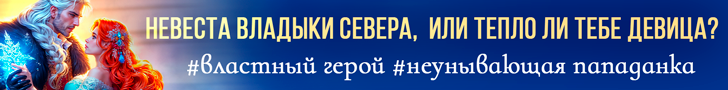На Волчьих равнинах
На Волчьих равнинах
Было сухо и ветрено. Солнце прошло треть своего дневного пути. Тоурир Йоунссон спускался на Волчьи равнины. Он шел мерным, неспешным шагом, сберегая силы — ведь они вскоре должны были ему пригодиться, все до последней капли. Шел он от Арнарватна и в дороге провел не один час.
Тоурир остановился передохнуть у безымянной придорожной могилы, опершись на посох.
Отсюда Ульвдалир просматривались, как на ладони. Длинные тени от скал протянулись по их серой линялой шкуре. Видно было, как в той стороне, где расположен далекий невидимый Акранес, по овечьей тропке спускается человек, сопровождаемый большой лохматой собакой. Человек этот бодро шагал, постукивая дорожной палкой по каменному крошеву, и, по всему видать, звался Хельги Эйнарссоном. Никого другого Тоурир здесь и не ждал увидеть. Маленькие Тоурировы глаза сузились еще больше, а рот растянулся в ухмылке. Несмотря ни на что, он рад был видеть Хельги Эйнарссона. Тоурир продолжил спуск, не отрывая взгляда от человека, шедшего на сближение с ним.
Они встретились на самой кромке Волчьих равнин, под сенью горы Гальдрабьорг, два скальда. Хельги Эйнарссон приветствовал собрата. Взгляд его ярко-голубых глаз был ясен и тверд. Вместе с тем, читалось в нем нечто наивное, почти детское.
— Что нового в Арнарватне? — вопросил Хельги.
— Все идет своим путем. Люди трудятся, овцы плодятся и, время от времени, дохнут, — философски ответствовал Тоурир. — По крайней мере, никто у нас в Арнарватне не плачет и не сетует на судьбу.
— На эту госпожу сетовать бесполезно, — подтвердил Хельги, улыбаясь.
— Если молча терпеть ее проделки, не заметишь, как очнешься на руинах собственной жизни. В древних сагах сказано: слава тому, кто борется с судьбою до последнего вздоха! — ворчливо заметил Тоурир. Хельги Эйнарссон был из тех людей, что, даже полностью соглашаясь с собеседником, умудряются ему противоречить. В ясных смелых глазах искрилась насмешка, и на кончике языка всегда вертелось поношение. И невысказанное, сути своей оно не меняло.
— Само собой, — тут же кивнул Хельги с серьезным видом. — Только достойный всяческого сожаления человек сдается без боя.
Тоурир засопел возмущенно. Но собрат его быстро спросил:
— Посещают ли тебя твои музы, почтеннейший Тоурир? Что они нашептали тебе с тех пор, как мы виделись в последний раз?
Тоурир Йоунссон враз подобрел, расплылся в улыбке, ведь Хельги, не тратя времени на ненужные препирательства, приступил прямо к делу, за которым скальды приходят на Ульвдалир.
Он, Тоурир, шел сюда с самого рассвета и за время пути старательно обдумал первый свой удар. Все также загадочно улыбаясь, покачивая седой головою, покряхтывая, он достал из-за пазухи пластину жевательного табаку и угостил Эйнарссона. Закончив манипуляции с табаком, важно выпрямился и без долгих предисловий выдал строчки, которые должны были сразить противника наповал:
Я видел в горах златоцветные зори,
Сиренам внимал на покинутом взморье,
Пускай побелила мне волосы вьюга,
Тебя воспеваю в довольстве и в горе.
Великая матерь, землица родная!
Кормилица бедных, души утешенье,
Ликуя, встречает твое пробужденье,
Безвестный певец полуночного края!
Хельги Эйнарссон, невозмутимо чавкая, выслушал патетические строки, с достоинством сплюнул желтую табачную жвачку и сказал:
— Видишь ли, дорогой Тоурир, ты пленяешься образами ушедшего века. Я могу тебя в этом понять. Но время пасторальных строк прошло, провалилось к дьяволу в Хель, вместе с вашими «златоцветными» да «сладкогласными» сиреньими песенками. Грядет эпоха мужественной поэзии. Только эддический стих достоин прославлять нашу землю. А назваться «безвестным певцом» — уж прости, дружище! — худшая разновидность гордыни, в которую только может впасть скальд.
Засим Хельги вновь сплюнул и начал читать, чеканя каждую строку, будто заколачивая стальные гвозди в твердое, как камень, килевое дерево:
Некогда строй
породила могучая
ясеней тинга
мечей окровавленных.
Севера славу
узнали венчанные
знатные роды
за влагой Эгира.
Склонялись в страхе
витязи смелые,
как под серпом
рожь перезрелая.
Племя их гордое
крестили пламенем,
благословляли
железом погибели…
Дочитав, Эйнарссон отступил на шаг с самым доброжелательным видом, давая понять, что он ждет ответного слова Тоурира с нетерпением. Йоунссон, метнув в собрата колючий взгляд, продекламировал, уже, однако, не столь восторженно:
Пусть стращают нас огнем
Да прельщают раем!
Рая мне милее дом,
Луг зеленый мая,
Где течет овец поток,
Гордых, крутобоких.
А руно — чистейший шелк,
Пламя вод глубоких!
Эйнарссон внимал, кивая, как школьный учитель, который слушает в тысячный раз библейский стих в исполнении тупицы-ученика дремотным жарким полднем. Дослушав, изрек:
— Так ты теперь взялся за римы, друг! Да еще воткнул простейший, известный каждому ребенку кеннинг!
Пламень глубоких вод
я привозил не однажды
с той стороны пролива
влаги Валхаллы.
Конунги старые
знали куда
дракона направить.
Тоурир и на этот раз возразил лишь своим стихом:
Годы — латки на одежде,
Минул век, весна прошла,
Но любовь моя, как прежде,
Златокудра, весела,
С нею ночь моя светла,
Молода моя надежда.
Тут Хельги впервые сбросил с себя напускную важность и расхохотался от души, прямо-таки непристойно. Собака его залаяла, вздыбив шерсть на черном загривке.
— Заткнись, Хекла! — крикнул Хельги и, все еще посмеиваясь, сказал:
— Бедная, бедная толстуха Гудрид! Слышала бы она, как честит ее муженек, непременно б ушла от него. Это когда ж она была весела? Не упомню. Или она только по ночам веселится? Ладно, слушай.
Бывало на юге —
девы румяные,