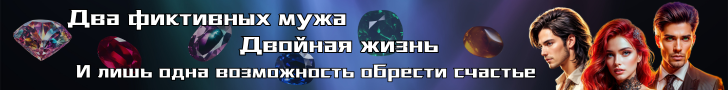Неразлучимые
Неразлучимые
1842, сентябрь
До того, как эта тетрадь попала к нему в руки, они с графом Уваровым вместе служили в крепости города N, и тот волочился за его женой. Она не поощряла его, но и вид ревнующего супруга, по всей видимости, доставлял ей некое удовольствие.
Павел был вдовец и немного старше. Ему нравилось, как Аня пела, и только из-за нее он посещал субботы у генеральши. Настойчивости не проявлял – в конце концов, у них было не так много развлечений.
Капитан улыбался сквозь зубы, но ничего не предпринимал. До дуэли не дошло.
Потом их обоих отправили в Герзель-аул, где они прожили несколько месяцев перед походом в Дарго, упражняясь на плацу днем и затапливая глотки вином вечерами. Уваров, прослывший молчуном и отчаянным воякой, теперь совсем нигде не появлялся. И капитан полагал, что почти забыл о его существовании. До одного разговора, случившегося перед самым отправлением.
«В добром ли здравии Анна Михайловна?» - спросил граф, застав его на конюшне.
«Благодарю вас, не жаловалась», - сдержанно ответил капитан.
«Ежели я обидел вас тогда, то сожалею. Дурных мыслей не имел и не имею».
«Вы не могли обидеть меня, поскольку у меня так же нет дурных мыслей о моей жене».
«Она немного напомнила мне о прошлом и о доме», - мягко ответил Уваров и вскоре ушел.
Это был их самый значительный разговор за долгие месяцы. В следующий раз они говорили в тот день, когда Уваров погиб, а сам капитан получил ранение, едва ли не стоившее жизни и ему. Он предпочитал не вспоминать – до этой тетради. Ему хватало других забот.
Боль в ноге не утихала – днями не мог думать ни о чем ином. Ночами – сон не приносил покоя.
Лечение помогало медленно, и большие надежды он возлагал на свой отъезд – дома уж всяко лучше, чем в Герзеле.
Оставались мелочи. Документы, безделицы, письма…
- Барин, - в комнату, тихо ступая, вошел денщик, следовавший за ним повсюду, - барин, я тут среди вещей, что из лазарета прислали, нашел – не ваше, похоже.
Протянул толстую потрепанную тетрадь. Капитан недоуменно взглянул на нее и взял в руки. С одного краю она была испачкана пятном крови. Поморщился – конечно, кто-то перепутал в лазарете, и ему прислали чужие вещи.
- Не мое, - пробормотал он, - надо бы снести обратно – вдруг кто хватится.
Открыл – строки, исписанные твердым и четким почерком на потемневшей бумаге со следами пороха. И тут же понял – некому хватиться. «Осенью 1830 года двадцатидвухлетним подпоручиком я служил в Варшаве…»
Тетрадь принадлежала Уварову, убитому в Ичкеринском сражении – однажды, остановившись на ночь в пути, он видел, как майор делал в ней записи – неужто мемуары писал? Почувствовал досаду – бедняга Уваров… Хотя к чему тут досада – в жизни есть потери и страшнее. Едва ли сам граф по себе горевал бы.
- Впрочем, передавать не нужно, - проговорил он, - ступай, Никита.
Слуга поклонился и вышел из комнаты. Капитан положил тетрадь на письменный стол и вернулся к прежнему занятию, но строки на бумаге, испачканной кровью, не давали ему покоя. Возможно, есть на земле кто-то, кому нужно передать эту тетрадь? Ведь у Уварова могли остаться родители или братья и сестры… Капитан решительно взял ее в руки и раскрыл. Похоже, все-таки мемуары. Усмехнулся. Да уж, графу Уварову не давала покоя слава литератора.
Но и не читать уже не мог.
Осенью 1830 года…
«Осенью 1830 года двадцатидвухлетним подпоручиком я служил в Варшаве. Если бы я был мемуаристом, то начал бы повествование с детских лет и описания своей жизни в поместье под Москвой. Но я не знаю, зачем и для чего пишу. Вероятно, чтобы оставить след по себе. Нужен ли этот след хоть одному человеку на земле? Матери? Отцу? Пожалуй. Да, мне хотелось бы быть понятым ими, как я не был понят прежде.
Тогда, в сентябре моя жизнь мне самому представлялась миром, полным чудес, как лавка, полная товара, на ярмарке. Удивительное было время. Отгремела революция во Франции, разворачивалась смута в Бельгии, и я сам, признаться, чувствовал себя вдохновленным их идеями, пусть и тайно. Молодость бурлила во мне, я ждал чего-то нового, чего не было прежде. Но не только это. Я еще слишком хорошо помнил своего дядюшку, Сергея Сергеевича, о котором в семье говорили, что он вольнодумец и бунтовщик. А мне представлялся человек, знавший обо всем на свете – истинный офицер, на которого я мечтал походить хоть отчасти. Последний раз мы виделись летом 1825 года. Я приехал на каникулы из кадетского корпуса домой, Сергей Сергеевич целыми днями пропадал в своем кабинете, но по вечерам мы играли в шахматы и говорили до полуночи. Да, время было удивительное, чудесное… А потом его забрали из дому в день, когда едва не случился переворот. Больше мы не видались. Но его судьба отразилась на мне таким странным образом – я чутко прислушивался к волнениям, к идеям среди тех людей, что меня окружали.
В Варшаве в те дни было неспокойно. Не только меня приводила в возбуждение одна мысль о победившей революции во Франции. Это чувствовалось где угодно – в лавке любого мясника можно было услышать разговоры о том, что не за горами тот день, когда возродится великая Польша – разговоры тихие, едва слышимые. Но стоило бросить искру, как разгорелось бы нешуточное пламя. Как всякий народ, поляки готовы были объединиться вокруг идеи. Не знаю, что я должен был чувствовать согласно своему положению офицера, преданного царю и Отечеству, но живя там, я начинал проникаться мыслями и надеждами окружавших меня людей.
А впрочем, я, возможно, теперь, спустя столько лет, и преувеличиваю – тогда я просто жил и был счастлив. Бунт присущ молодости.
Я исправно нес службу, не особенно задумываясь над последствиями того, что могло развернуться на моих глазах. Ведь разговоры до поры оставались только лишь разговорами.
Да, это был чудесный сентябрь – теплый, золотой, солнечный. Мы жили в неведении и тем были счастливы. Балы, охота, визиты, театр, иногда все это прерывалось учениями… Но, в конечном счете, все, что было в моей жизни, принималось как данность. Жил я тогда не в казарме, а на казенной квартире, был этим весьма доволен. Квартира была местом частых посиделок с друзьями за картами – довольно веселое место, под стать моему нраву.
Однажды, в конце сентября, ближе к вечеру ко мне явился корнет гвардейских улан Марк Домбровский, которому я на тот момент изрядно проигрался в карты. Но мы считались друзьями.
- Паулино! – воскликнул он с порога. – И ты еще не одет?
Я недоуменно окинул его взглядом, но так и не вспомнил, собирались ли мы куда-то. Марек был примерно моего возраста и стати, очень смешлив и почти безрассудно отважен. За ним тянулся шлейф дуэлей, в которых, однако, дело едва ли доходило до крови.
- Ты забыл, скотина! – весело провозгласил Марк. – Бал у Липницких! Я же хотел представить тебе Жюли!
Юлия была младшей дочерью князя Михала Липницкого, богатого польского помещика. Она еще только начинала показываться в свете. Но дебютантки мало интересовали меня в ту пору – я предпочитал женщин опытных, поскольку сам был юнцом. Да и женитьба в мои ближайшие намерения не входила, потому держался в стороне от молоденьких барышень. Домбровский же просил руки этой девицы, получил согласие ее родителей, ухаживал теперь за ней на правах жениха и последние дни только о ней и говорил, чем утомил меня невозможно.
Однако я задолжал ему и долга пока вернуть не мог – из жалования всех долгов не отдашь, а денег из Москвы никак не слали. Потому пришлось ехать на тот пресловутый бал. И именно он изменил всю мою жизнь.
Мы приехали не к началу. Полонез уже завершился, и оркестр готовился к исполнению вальса. Домбровский же глазами разыскивал хозяина. Следовало выказать ему свое почтение. Почти сразу наткнулись мы на его сына, Адама. Я не был знаком с ним прежде. Теперь, вспоминая о нем, я думаю, что при других обстоятельствах мы непременно стали бы с ним друзьями. Но не в те далекие дни, когда чувства казались слишком обострены. Адам Липницкий был невысок, светловолос и немного старше меня. Он не носил офицерского мундира – его отец выбрал для него статскую службу. Он тогда казался нервным, а в последствии – еще и слишком уж честным.
- Марек! – увидев нас, окликнул Адам моего спутника.
Домбровский улыбнулся и отправился к нему, увлекая меня за собой. Должно сказать, что бал был далек от церемоний, принятых в высшем обществе. Это сразу бросалось в глаза. Нравы были несколько более вольными, и обстановка почти домашняя – здесь все друг друга знали. И так уж вышло, что самому себе я казался едва ли не единственным новым лицом в доме Липницких.
- Адам, здравствуй! – сказал Домбровский, когда мы приблизились, пробравшись сквозь толпу. – Позволь рекомендовать тебе графа Павла Уварова, подпоручика и моего большого друга.
Мы обменялись приличествующими случаю любезностями. Самое интересное началось позднее.
- Что говорят у вас? – безо всякого предисловия спросил Адам у Домбровского.
-Что говорят? То же, что и везде, - отвечал Марк, сделавшись вдруг серьезным – его лицо преобразилось, исчезла мальчишеская мягкость, и я обнаружил с удивлением его волевой подбородок и совершенно польский нос с горбинкой, - никто не верит в то, чтобы поляки отважились выступить теперь.
- Даже после того, как карбонарии расплодились по всей Европе? Даже после Франции? – насмешливо, но и запальчиво спросил Адам.
- Карбонариев в Польше нет, - заметил весьма резонно Марек.
- В Польше есть поляки, - сурово ответил Липницкий и взглянул на меня, - и что по этому поводу думает офицер пехоты?
Не помню, что я тогда ответил. Меня не должно было быть при том разговоре, мы все трое это понимали. Но понимали так же и то, что я не выдам их, если спросят. Они оба были поляками. И оба чувствовали свое унижение перед многовековой историей Речи Посполитой.
Оркестр заиграл вальс. Адам откланялся и отправился танцевать. А Марк неловко улыбнулся, словно бы извиняясь за друга, и потащил меня разыскивать Жюли.
Та стояла возле своей матери. Признаться, она не произвела на меня ровно никакого впечатления – невысокая, очень тоненькая, с просто причесанными темными волосами, она мало чем отличалась от прочих дебютанток того сезона. Хорошенькая, и не более. Я не заметил тогда ни синевы ее чуть раскосых глаз с поволокой, ни густоты черных шелковистых ресниц. Ни того, как вспыхнули ее щечки, когда нас представили друг другу. Красота ее не бросалась в глаза. И позднее, когда она стала старше, ее никогда так никто и не назвал бы красавицей. Черты лица ее были тонкими, аристократичными, но таких лиц на свете немало. И в то же самое время, именно оно снится мне по сей день каждую ночь.
Я не помню, о чем мы говорили в те первые минуты нашего знакомства. Наверное, это была приятная светская беседа, которой мы оба были обучены с детства. Я не запомнил даже ее улыбки, обращенной ко мне, когда нас представили. Так странно думать об этом теперь. И так жаль, что я не помню этих мгновений.
Я прошел бы мимо нее, наверное, если бы мы встретились при других обстоятельствах. Но так уж было суждено, что вскоре после ужина Юлия должна была петь. То была какая-то ария из Альцидора Спонтини. И вот тогда я увидел ее. Увидел по-настоящему такой, какой она была. Или тогда мне казалось так. Весь мир вокруг замер, остановился. Звучал только ее голос – высокий и чистый. «Так, должно быть, поют ангелы», - почему-то думалось мне. Она пела, а в моей душе рождалось что-то новое, и я понимал, что именно этого обновления и жаждал всю свою жизнь. Иная свобода мне была не нужна.
Мы повстречались в следующий раз в театре довольно скоро, не более чем через неделю. Юлия приехала туда с Адамом, своей старшей сестрой Боженой Абламович, ее супругом Казимиром и Мареком Домбровским. В антракте я вошел в их ложу, едва ли понимая для чего. Конечно, необходимо было поприветствовать Марека и Адама. И вместе с тем в моих мыслях была одна только Юлия.
- Как вам опера? Вы, должно быть, много в этом понимаете, – спросил я, обращаясь к ней.
Она подняла на меня глаза, и я утонул в их синеве. Глаза были дерзкими, немного насмешливыми, почти острыми – как это я не заметил этого в первую встречу?
- К сожалению, - ответила Юлия с улыбкой, - к сожалению, слишком много, чтобы быть довольной сегодняшним представлением.
Более мы не говорили. Второй акт прошел, словно во сне, я совсем не слышал музыки. Все мои мысли и чувства были обращены к панне Липницкой. А после спектакля я вновь разыскал их в толпе у выхода из театра. Они ожидали, когда подадут их экипаж. Юлия вдруг улыбнулась мне, и пока остальные были более заняты друг другом, чем нами, сказала:
- Приходите к нам по средам. Божена устраивает чудные вечера. Вам будет интересно.
- Всенепременно, - отозвался я.
Юлия улыбнулась снова и обратилась уже к Мареку с какой-то просьбой.
Я стал бывать у Липницких довольно часто – большей частью из-за Юлии – постепенно все больше увязая в этом. Нет, я не думаю, что тогда то была любовь. Я не из тех людей, что верят в любовь с первого взгляда. Бог знает, что за наваждение на меня нашло. Возможно, предчувствие собственной судьбы? Фатализм никогда не был мне присущ, но теперь я думаю, что в этом есть какой-то смысл. Я думал о ней поминутно, я не знал, что мне делать – ведь она была невестой моего друга. И в то же время отказаться от этих вечеров у Божены Абламович и Липницких я не мог – необходимость видеть Юлию стала жизненной. Но полюбил истинно, всей душой я позднее.
По прошествии месяца моих посещений этого дома я сделал несколько выводов относительно публики, бывавшей у Липницких. Она отличалась от той, что у нас в доме в Петербурге, да и в Москве. Сюда приходили не одни лишь аристократы, но и ученые мужи, поэты и даже временами студенты – весьма разнородная толпа. Все они были поляками и объединены по одному важному признаку – они мечтали о свободе по образцу Франции. Людей, вроде меня, больше не было. И ко мне там привыкали довольно долго. Но терпели – меня привел Марек Домбровский. Ему здесь верили безоговорочно.
Нет, то был не политический кружок, но предчувствие грядущего восстания было живо в таких салонах. Разговоры о независимой Польше в границах 1772 года вспыхивали постоянно, но довольно быстро переходили в обсуждение внешней политики в Европе. Передавались слухи о неспокойствии в Италии, о событиях в Бельгии. Я слушал и впитывал это подобно губке.
Особенно воодушевлены были происходящим молодые люди, вроде Адама Липницкого или Марека. Признаться, я никогда не видел корнета Домбровского таким, как в те дни. Он служил в русском полку гвардейских улан, но был поляком до мозга костей. Однажды мы говорили с ним о том, чем чревато происходящее. Особенно для него – его полк никогда не перейдет на сторону восставших.
- Когда Родина позовет, я буду знать, чем служить ей, - слушая и не слыша моих опасений, отвечал Марек, а мое сердце сжималось при мысли о том, как он будет разочарован, если мечты его не сбудутся.
В первых числах октября на улицах Варшавы расклеили прокламации, объявлялось о том, что с наступлением следующего года Бельведерский дворец, бывший в то время резиденцией Его Высочества Константина Павловича, наместника Польши, будет сдаваться внаймы. Магической цифрой среди офицеров, шляхты и студентов звучала дата 26 октября. Усилили охрану дворца, Великий Князь с супругой никуда не выезжали.
А я тем временем слушал пение Юлии Липницкой на вечерах ее сестры по средам. И когда своим волшебным голосом она начинала выводить Hej, sokoły, я еще не понимал, что там, в этом пении, заключено все ее сердце.
#106113 в Любовные романы
#2784 в Исторический любовный роман
#34723 в Проза
#1716 в Исторический роман
Отредактировано: 18.04.2017