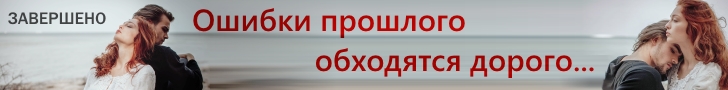О мальчике и девочке, которые не замёрзли
Максим Горький
О мальчике и девочке, которые не замерзли
Святочный рассказ
В святочных рассказах издавна принято замораживать ежегодно по нескольку бедных мальчиков и девочек. Мальчик или девочка порядочного святочного рассказа обыкновенно стоят перед окном какого-нибудь большого дома, любуются сквозь стекло ёлкой, горящей в роскошных комнатах, и затем замерзают, перечувствовав много неприятного и горького.
Я понимаю хорошие намерения авторов святочных рассказов, несмотря на их жестокость по отношению к своим персонажам; я знаю, что они, авторы, замораживают бедных детей для того, чтоб напомнить о их существовании богатым детям, но лично я не решусь заморозить ни одного бедного мальчика или девочки, даже и для такой вполне почтенной цели…
Я никогда не замерзал сам, никогда не присутствовал сам при замерзании бедного мальчика или девочки и боюсь наговорить смешных вещей при описании ощущений замерзания…
Да потом и неловко как-то умерщвлять одно живое существо для того, чтобы напомнить о факте его существования другому живому существу…
Вот почему я предпочитаю рассказать о мальчике и девочке, которые не замёрзли.
Было часов шесть вечера – святочного вечера. Дул ветер, вздымая тут и там прозрачные тучки снега. Эти холодные тучки, неуловимых очертаний, красивые и лёгкие, как куски смятой кисеи, летали всюду, попадали в лицо пешеходов и кололи ледяными уколами кожу щёк, осыпали морды лошадей, – лошади мотали головами и звучно фыркали, выпуская из ноздрей клубы горячего пара… На телеграфных проволоках висел иней, и они казались шнурами из белого плюша… Небо было ясно, и в нём сверкало много звёзд. Они сверкали так ярко, что казалось, будто их к этому вечеру кто-то прилежно вычистил щёткой с мелом, чего, конечно, не могло быть.
На улице было шумно и оживлённо. Мчались рысаки, шли пешеходы, причём одни из них шли торопливо, а другие неторопливо, и эта разница, очевидно, зависела от того, что первые имели некоторые дела и заботы или не имели тёплых пальто, а вторые не имели никаких дел и забот и имели не только тёплые пальто, но даже и шубы.
К одному из людей, не имевших забот, но обладавших шубой с пышным воротником, прямо под ноги к одному из таких господ, шагавшему медленно и важно, подкатились два маленькие комка лохмотьев и, вертясь перед ним, тоскливо заныли в два голоса:
– Батюшка-барин… – тянул звонкий голос девочки.
– Ваше благородие, господин… – помогал ей хриплый голос мальчика.
– Подайте убогеньким деткам…
– Копеечку на хлебец! Для праздника!.. – закончили они оба вместе.
Это были мои герои – бедные дети, мальчик – Мишка Прыщ и девочка – Катька Рябая…
(Не желая шокировать благовоспитанную публику, предлагаю переименовать героев моих в Мишеля и Катрин).
Господин шёл, а они юрко сновали у его ног, то и дело перебегая ему дорогу, и Катька, задыхаясь в волнении ожидания, полушёпотом повторяла: «Под-дайте!..», тогда как Мишка старался как можно более мешать господину идти.
И вот господин, когда они порядочно надоели ему, распахнул шубу, достал портмоне и, поднося его к своему носу, стал сопеть. Затем он вынул монету и сунул её в одну из протянутых к нему маленьких и очень грязных рук.
Два комка лохмотьев мгновенно исчезли с дороги господина в шубе и сразу очутились в нише ворот, где, прижавшись друг к другу, некоторое время молча посматривали в ту и другую сторону улицы.
– Не видал, чёрт!.. – тоном злого торжества шепнул бедный мальчик Мишка.
– Он к извозчикам пошёл, за угол… – ответила его подруга. – Сколько дал барин-то?
– Гривенник! – равнодушно сказал Мишка.
– А сколько стало?
– Семь гривен с семишником!
– Ого, уж сколько!.. А скоро домой? Холодно…
– Поспеешь! – скептически сказал Мишка. – Ты мотри, не суйся так сразу, бутáшник-то увидит – заберёт и чёлку надерёт… Вот баржа плывёт! Вали!
Баржой оказалась дама в ротонде, из чего ясно видно, что Мишка был мальчик очень злой, невоспитанный и непочтительный к старшим.
– Родимая, ба-арыня… – пел он.
– Пода-айте Христа ради!.. – тянула Катька.
– Три копейки отвалила! Эво!.. Чёртова кукла!.. – выругался Мишка и снова юркнул в нишу у ворот.
А по улице всё метались лёгкие тучки снега, и холодный ветер становился острей. Телеграфные столбы глухо гудели, визгливо скрипел снег под полозьями саней, и где-то далеко по улице рассыпался свежий и звонкий женский смех…
– Тётка-то Анфиса и сегодня будет пьяная? – спросила Катька, плотнее прижимаясь к товарищу.
– А что же! Что ей не пить-то! Будет… – солидно ответил Мишка.
Сбрасывая с крыш снег, ветер стал тихонько насвистывать какую-то святочную ариетту, и где-то завизжал дверной блок. Потом раздался дребезг стеклянной двери, и звучный голос крикнул:
– Извозчик!
– Пойдём домой! – предложила Катька.
– Ну! заскулила!.. – огрызнулся на неё солидный Мишка. – Чего дома-то?
– Тепло… – кратко пояснила она.
– Тепло!.. – передразнил её товарищ. – А как соберутся все, да плясать заставят, – хорошо? А то накачают тебя водкой, – опять рвать станет… Тоже – домой!..
И он поёжился с видом человека, который знает цену себе и твёрдо уверен в справедливости своего взгляда на дело. Катька судорожно зевнула и присела на корточки в угол ворот.
– А ты молчи себе… холодно – потерпи… Ничего!.. Мы, брат, отогреемся за милу душу… Уж я знаю! Я, брат, хочу…
Он остановился с целью заставить свою товарку проявить интерес к тому, чего он хочет. Но она, сжимаясь всё плотнее, не проявляла никакого интереса. Тогда Мишка несколько тревожно предупредил её:
– Ты смотри, не засни… обморозишься! Катюшка?!
– Нет… я ничего… – стуча зубами, ответила она.
Не будь с ней Мишки, она, может быть, и замёрзла бы; но этот опытный пострелёнок твёрдо решил всячески мешать ей сделать этот обыкновенный святочный поступок.