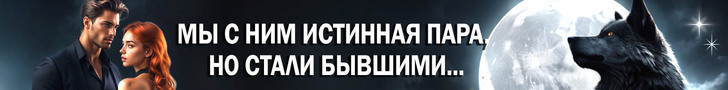Осенний Александр
Осенний Александр
I.
"Невский экспресс" уходил с Ленинградского вокзала в половине восьмого. Лида была на перроне в семь десять: она любила вокзальную сутолоку, деловые спешащие поезда с заманчивыми надписями "Москва-Минск", "Москва-Адлер", виденные ею в разное время на разных столичных вокзалах, и, как память из детства — взгляд на перрон из поезда, везшего маленькую Лидочку Коростелёву с тётей и двоюродной сестрой на юг, — загадочная, труднопроизносимая и потому смешная надпись на боку соседнего состава — "Москва-Лабытнанги".
Но самое неповторимое в вокзалах — конечно же, запах. Запах гари — запах долгих проводов-лишних слёз, лета и скорого отдыха, дороги и новых надежд. Лида любила этот вокзальный запах страстно, как токсикоман. Поэтому, ожидая, когда подадут поезд, девушка прогуливалась взад-вперёд по перрону, до приятных мурашек радуясь всему — вокзалу, запаху, московской осени, так приятно прощупывавшимся в кармане пальто билетам в Питер и обратно, своему новому зонтику в прямом смысле слова всех цветов радуги…
Этот зонтик, как и эти билеты, были дороги ей вдвойне, потому что стоили затраченных нервов. Зонт, надо сказать, обошёлся малой кровью: тётка надулась, и полчаса в доме стояла напряжённая тишина, которую Лида не любила, но за столько лет научилась не бояться. Билеты обошлись дороже: та же тётя рыдала, причитала, чуть ли не падала на колени, умоляя племянницу не ехать в этот далёкий промозглый город, приводила разные доводы, начиная с нехватки времени и заканчивая предчувствием. В сущности, Лида уже привыкла и научилась тихо и предельно вежливо, мило улыбаясь, гнуть свою линию, но когда у милейшей Зои Николаевны случались эти приступы истерики, она казалась племяннице такой безобразной и такой жалкой, что начинало хотеться не ехать ни в какой Питер, а забиться подальше в угол, укрыться с головой одеялом и не дышать. И вот такие моменты надо было пересилить, не сдаться. Этому Лида только училась. Пару раз, поддавшись на уговоры, она уже упустила что-то интересное. Третий раз не поведётся на эту трагикомедию ни за что. Удалось. Ценой многих слёз и нервов, но удалось.
Наконец, тяжело вздохнув, к третьему пути подкатил белый, сверкающий остромордый "Невский экспресс". Лиде он всегда напоминал поезд из японского мультфильма "Унесённые призраками". Только тот ходил в одну сторону. "А это было бы даже забавно", — подумала Лида озоровато, предъявив аккуратной представительной тётеньке билет и заняв место у окна. Вот оно, счастье! За окном золотая осень, накрапывает дождь, в рюкзаке — томик Бунина, чтобы было чем себя занять в дороге, а впереди — туманный, сырой и промозглый город, которому не веришь ни на грош и в котором девушку никто не ждал и можно было просто гулять по улицам, радуясь каждой клеточкой души. Для Лиды Петербург был синонимом свободы. Свободы от всего — от деспотизма тётки, от обязательств, от учёбы, от серой, равнодушной, ни с кем не считающейся Москвы. В Петербурге можно было просто гулять, не глядя на часы и никуда не торопясь, потакая своим желаниям: захочется сходить в музей — их вокруг столько, что замучаешься выбирать; слишком сильно испортится погода — можно укрыться в какой-нибудь церкви (Лиду они привлекали исключительно с эстетической точки зрения); проголодаешься — перекуси в булочной или кофейне. И так можно бродить целый день, чувствуя себя не гостьей, а хозяйкой этого города или по крайней мере неотъемлемой его частью.
Наконец-то поезд тронулся. Этот момент Лида тоже всегда любила. Обязательно досматривала в окно до конца платформы — это была своего рода традиция, сбрасывание старой кожи, как у змеи. "Только змеи сбрасывают кожи, чтоб душа старела и росла…" — моментально уцепилась за знакомый образ память и процитировала Лиде из её любимого Гумилёва. "…Мы, увы, со змеями не схожи: мы меняем души, не тела", — договорила эта же память несколько секунд спустя.
Всё. Платформа кончилась, шкурка сброшена и душа уже пошла совсем другая — девушка охарактеризовала её одним словом: непредсказуемая. Она такая себе почему-то страшно понравилась и, удовлетворённо улыбнувшись, вся ушла в чтение Бунина.
Для двадцатичетырёхлетней девушки, едущей в одиночку в поэтичнейший город мира в самое романтичное время года, Иван Алексеевич составил приятную компанию. После его рассказов хотелось плакать из-за того, что Господь сотворил мужчин такими ранимыми, а женщин — такими соблазнительными и такими безжалостными. Конечно, и у него был целый ворох штампованных рассказов, построенных по принципу "увидел-влюбился-переспал-расстался", но всё это было написано таким потрясающим языком, а второй и третий пункты так вдохновляли, что рассказы не казались однообразными. И всё-таки Лида больше любила те, которые выбивались из этой схемы — "Холодную осень", "Поруганного Спаса", "Чистый Понедельник", не говоря уже, конечно, о "Митиной любви", доказавшей ей ещё пять или шесть лет тому назад, что если произведение заканчивается грустно — не надумано, а неизбежно, само собой — оно всегда лучше, романтичнее и крепче берёт за душу, чем те, что заканчиваются хэппи-эндами. В трагическом конце было что-то благородное. Он был лучшим и единственным доказательством того, что любовь была всерьёз. Потому что если всё завершается розочками и счастьем, становится немножко тошно — как если переесть пастилы. Смысл героям страдать, если они когда-нибудь воссоединятся — и здесь писатель и остановится, как будто нет ни каждодневного быта, ни мелких семейных неурядиц? А вот если в финале разыгрывается трагедия, то читатель, усилием воли втянув слёзы обратно, вздохнёт: "А как всё могло бы быть, если бы…" и сейчас же остановится, почувствовав, что нет, по-другому быть не могло и лучше смерть и душераздирающие страдания неразделённой любви, чем набившая оскомину ванилька. Если человек умирает от горя — это по-настоящему, понятно, объяснимо и хочется плакать вместе с ним; если от счастья — скучно, как затянувшийся сериал. Вот за это, главным образом, Лида и любила Бунина.
#29013 в Проза
#15830 в Современная проза
#33992 в Разное
#4538 в Неформат
18+
Отредактировано: 30.05.2019