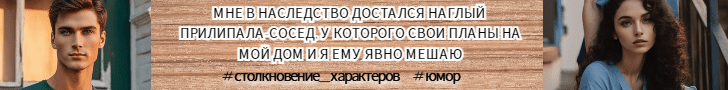Пагубица
Пролог
Справа к проходу из покоев, через спальни Бориса и Ясена, по пролёту к Приёмной, что прямо под светлицей Любляны. Молильня в другом конце дома – ещё попробуй дойди. В этом часу в доме не горят свечи, так что двигаться приходится вдоль стенки, почти наощупь. На шее висит старый матушкин образок, но от него нет толку – там, откуда оно явилось, не чтят Золтоградских святых.
Страшно даже думать, что станется, ежели не поспеешь.
Ставни закрыты плотно – погода студёная и злая, как всегда в эту пору, особенно к утру, когда спадает жар от печи. Старым босым ногам холодно ступать по полу, и шитый кафтан тяжел, так что шаг получается шумным, неуклюжим, почти медвежьим, как у крестьянина.
Ему вторит другой шаг. Тихий, он то звучит перебежками, как у ребёнка, то раздаётся в пустом проходе цоканьем каблуков. Оно движется ловко. Когда надоедает идти по-человечески, оно ползёт, как паук. Не убежать: кафтан давит только пуще, да и колени уже не те, что раньше.
Оно рычит, идя по пятам. Не бросается, но изводит, будто играет в салки. Злобное, страшное, оно показывается ночами – нависает над кроватью и смотрит нечеловеческими глазами. Раскраивает душу, как ножом. Ждёт, пока сможет сожрать живьём, чтоб ни косточки не оставить.
И однажды оно сожрёт.
А шепчет? О, как оно шепчет! Как будто разом говорит дюжина разномастного зверья, так что этот шёпот становится похожим на волчий вой, обернувшийся человеческой речью:
«Княже»,
«княже»,
«княже»…
***
– Княже!
Дубовая дверь распахнулась и хлопнула: Любодар даже не пытался вести себя тихо.
Смеркалось. В полумраке черты его лица были почти неразличимы, но гадать особо не приходилось – немногие могли позволить себе так просто, без поклонов, заявиться в Приёмную Золтоградского Князя-Государя. Путята, как главный княжеский подручник, сообщил бы, если бы кто-то чужой пожаловал ко двору, особенно в этом часу. Но это будь кто из важных: скажем, послов или наместников. Иных он спровадит, даже не пустив на порог.
Пусть, как все, пишут в Челобитную. А уж коли чин не позволяет со всеми, то и приезжать надо утром, а не к вечеру, когда никто уже не ждёт. Хорошо жить стали – совсем распоясались, черти.
Юноша, пожаловавший в Приёмную, сильно отличался от грузного рыжебородого Путяты. Он был молод, строен, а бороды не носил вовсе, так что ему впору было бы держать службу в Малой княжеской дружине, где у воинов её ещё не растет, а не беседовать по душам с Государём. И хотя его лицу обыкновенно было присуще то выражение задумчивости, какое встречается у умудрённых жизнью людей, большую часть времени оно выказывало только недовольство и скуку. Юноша вышел ближе к свету, на ходу поправляя космы – чёрные, они завивались, как у деревенской девки.
– А я уж было подумал, что ты, Княже, пропал со двора. У Путяты не допросишься, где тебя искать.
Любодар, не теряя времени, по-хозяйски сел в кресло под окном. Он говорил с выражением, которое свойственно некоторым балованным боярским детям – смесь игривой спеси и безразличия, в которой одно одолевало другое в зависимости от того, каким чином обладал его собеседник.
– Стало быть, ты теперь по ночам не спишь, Княже? Али так неладно люди тебе служат, так что тебе даже до покоев от дел да забот не дойти? Объясниться мне с ними, чтоб не забывали, чем каша пахнет?
Князь вздохнул:
– Полно бесноваться, Любодар. Я уж не молод: злые языки здоровье испортили. Ни на что теперь сил не хватает. Вот и сморило.
Да… непросто ему приходилось при дворе без колдуньи. Она и подлатать могла, и сглаз снять, и подсказывала, когда надо, и дела вела так, чтобы никто не шептался. Князю такого умения не доставало. Если бы опять заговорили, что Золтоградский Государь связался невесть с чем – да не просто так, а по заботам Княжества – перед народным судом его не спасли бы ни знатность рода, ни личное войско. Кудесников-то мало кто любит. Особенно здесь, в столице.
– Ладно-ладно, – он поправил волосы, которые лезли ему в лицо, и подпер голову рукой, все пальцы которой были унизаны кольцами, – Вижу, Княже, что ты опечален. Тогда к делу: мои люди прибудут ко двору только завтра к вечеру, так что сохрани до тех пор наш разговор, ежели не хочешь молвы.
Перстни сверкнули на свечном свету.
– Должно быть, тебе пока неведомо, что три ночи тому назад кочевники разорили ремесленную деревню под Рябрянкой? Говорят, прошли по южной границе. Чьи люди там пост держали? Уж не Степана Федоровича ли...?
Не успел он договорить, как сверху, со стороны терема, где бабки укладывали спать княжеских дочек, раздался грохот. Да такой сильный, будто с обеденного стола на большом пиру разом свернули скатерть, чтобы вся кухонная утварь полетела на пол. Любодар затих и прислушался: в наступившей тишине наверху зазвучал глухой топот.
Они с князем, не сговариваясь, вскочили на ноги. Любодар схватился за ножны на поясе, готовый к бою, а Государь уж было хотел бежать на подмогу дочкам, но весь его пыл затих, как только в коридоре, разносимый эхом, раздался задыхающийся плач Васёны, его младшенькой.
– М-марфа-а! Папенька-а...! – топот затих посреди коридора, когда со стороны терема зазвучали охи старых нянек и оклики дежуривших в коридоре спальников, нагнавших Васёну. – Где вы все? Пожалуйста. Сестрица меня пугает. Она меня-а убьё-о-от.