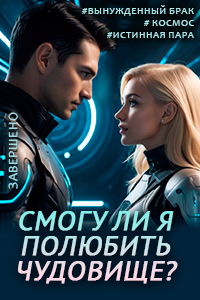Пока кукует над Рессой кукушка...
Часть четвертая. Нашествие. Глава третья. Пути-дороги..
Часть четвертая.
Нашествие.
Глава третья.
Пути-дороги...
Уже в начале декабря 1941 года сельчане ощутили в поведении захватчиков заметные изменения. Фашисты стали ещё злее и ожесточённее.
В Красном располагалось какое-то немецкое подразделение. Что это были за военные, ни женщины, ни старики особо не вникали. Вездесущие подростки предполагали, что связисты. Но досконально никто ничего не знал. Тем более, что в Красном проходила частая смена солдат и техники. Но на обращении с жителями деревни это никак не отражалось. Вернее, с каждым днём жить становилось всё страшнее и опаснее.
Периодически герр офицер, как его именовали вслед за денщиком Саня с Ольгой, предполагая по неграмотности, что это его имя, вместе со своим Ференцем куда-то выезжал, и тогда избу охранял один из полицаев.
Все фашисты смертельно боялись партизан. И по любому, самому незначительному поводу поднимали крик об их нападении на деревню, проводили обыски в краснинских подворьях, и так уже ими раскуроченных и обобранных. Все продукты, что были запасены в зиму, захватчики отобрали ещё осенью, скот бездумно уничтожили, видимо, в уверенности, что война будет короткой. Но зима вступила в свои права, а победы так и не предвиделось.
Ходившая на работы по расчистке дорог от снега Ольга порой приносила известия, что вроде бы немцы так и не захватили Москву, хотя в своих листовках и выступлениях перед сельчанами, когда в очередной раз прилюдно у сельской управы наказывали кого-то из провинившихся, переводчик красочно расписывал, как доблестные войска вермахта проводят парады в центре столицы.
Саня иногда, придя из избы, где топила печь и готовила еду захватчикам, высказывала мысли о том, что не мешало бы закрыть в печи вьюшку раньше срока и уморить нелюдей. Так уже сделали в одной из изб на Выселках. Хозяина-старика и всю его семью за это расстреляли. Смерти Саня не боялась, давно уже хотела соединиться со своим Андрейкой. Но беспокоилась о племянниках, слово деверю Николаю дала, что сохранит до его прихода детей. Да и не хотела с собой на тот свет раньше времени малолеток забирать. Ради них только и работала на немцев.
Ференц постоянно следил за нею, подозревая, что эта русская варварка может украсть что-то из еды, предназначенной для хозяина. Но ни разу не захватил работницу за воровством. Впрочем, Саня и в мыслях не считала возможным пасть так низко, чтобы красть даже то, что изначально было ею же заготовлено на зиму. Питались они с Ольгой и детьми чем придётся. В основном мёрзлой картошкой, что осталась в зимней закуте и предназначалась на корм скоту.
Однажды Ференц, разрубив привезённую из Гороховки ногу лошади, кусок с копытом скинул с колоды и демонстративно отвернулся. Но Саня не решилась взять, хотя для детей это была бы существенная помощь в питании. Тем более, что Ваня ещё не оправился после болезни, которая прихватила его после обморожения ноги.
Тогда денщик подозвал её окриком и подтолкнул в её сторону это копыто. Потом отвернулся и зашёл в избу. Из этого мёрзлого куска кости с копытом, осмолив его и промыв, Саня с Ольгой сварили что-то вроде похлёбки с мёрзлой картошкой. И хотя в традиционном питании сельчан русской равнины не было принято использовать мясо лошадей, это почиталось грехом, но в этот раз, чтобы выжить, все ели варево. И оно казалось голодным подросткам необыкновенно вкусным.
Как-то один из солдат привёз из Гороховки мешок с зерном. Скинул на снег перед избой. И часть зерна просыпалась. Это было счастьем. Потому что денщик приказал Сане убрать просыпанное с тропинки и выбросить. И это тоже было использовано для еды.
Но всё это было ещё до нового года.
Немцы из деревни опять куда-то уехали. Остались лишь охрана из полицаев, да работники управы. Подростки приносили новости от сверстников из других деревень, что вроде бы идут бои за Калугу. Фронт приближается к родным местам. Это было понятно и по участившимся взрывам снарядов, глухо доносившимся издалека, и по заметно увеличившемуся числу советских самолётов, летящих в тыл вражеских войск.
А тут вдруг на излёте года, точного числа сельчане не знали, в Красное ранним утром в страшной спешке прикатили на машинах гитлеровцы почти все полураздетыми. Кто только в исподнем, кто успел китель накинуть, кто даже босиком. Что-то гомонили по-своему. Срывали злобу на местных. По некоторым недомолвкам деревенские поняли, что немцы попали в переплёт где-то около Калуги. Наши войска начали масштабное наступление, которого захватчики не ожидали. Так что пришлось в спешке удирать со своих позиций кто в чём был.
Ференц в эти дни был чернее тучи. Такого позора для своего хозяина он от варваров просто не ожидал. Саню, привычно пришедшую топить печь, в избу не пустил.
Днём позже к Ване заглянул его приятель Семён Шаликин. Шёпотом рассказал, что наши войска уже на подходе. Говорят, что кавалеристы Первого гвардейского корпуса генерал-майора П.А. Белова вступили в бой с гитлеровцами в районе деревень Малая и Большая Средняя. Потому и артиллерийские залпы стали намного слышнее. Потом Ольга принесла другую новость. Будто бы кавалеристы генерала Белова вышли с боями на "варшавку" у Касимовки и освободили из лагеря несколько сотен тамошних пленных красноармейцев. Правда, в бою с превосходящими по силе фашистами, у которых было много танков и самоходок, наступающие понесли потери. Работавшие на очистке дороги деревенские из Рыляк сказывали, что конники ушли в сторону Вязьмы, к партизанам. Насколько это было верно, никто ничего не мог подтвердить, но тех из сельчан, кого отрядили на расчистку дорог, фашисты отправили к Касимовке убирать убитых.
Звуки артиллерийских орудий становились всё слышнее. Фронт приближался со стороны Озера. Но неожиданно почти с противоположной стороны, от Труфановой к Красному выехали одетые в белые маскировочные халаты лыжники и с ходу вступили в бой с располагавшимися в деревне фашистами. Стремительность их наступления застала немцев врасплох. Они выскакивали из изб полураздетыми и на машинах и мотоциклах в панике отступали в сторону Гороховки.
Жители Красного попрятались в погребах и других схронах, потому что со стороны Лазина начался артобстрел. А лыжники продолжили своё наступление на Гороховку. Они и там сумели посеять панику в рядах врага и выбить противника из деревни.
Пулемётный расчёт лыжников занял самую удобную точку на крыше колокольни и огнём пулемётных очередей поливал очухавшихся фашистов, прикрывая отход основного отряда. А лыжники двинулись в сторону Озера.
Артобстрел перекинулся с Красного на Гороховку. Снаряды падали рядом с сельским храмом. А на крыше колокольни продолжал строчить пулемёт, прикрывая уходящий отряд и не давая возможности фашистам пуститься им вдогонку. Неожиданно очередной снаряд достиг цели, снеся сразу полколокольни. Следующие снаряды превратили и храм и колокольню в груду развалин. Но погибшие на колокольне пулемётчики выполнили свою задачу: они задержали фашистов, погнавшихся было за лыжниками, и те в результате смогли соединиться в районе Озера с нашими войсками.
Деревня теперь находилась в прифронтовой зоне. Фашисты бывали здесь только наездами. Но и это было страшно. Потому что всякий раз случалось непоправимое. То каратели подожгли противоположный конец деревни. И только внезапно начавшийся артобстрел окрестностей остановил захватчиков от полной расправы. То схватили нескольких подростков и куда-то увезли...
Время, казалось, остановилось. И всё-таки в воздухе витало всеобщее ожидание скорого прихода Красной Армии. Всё ближе были раскаты артиллерии, всё чаще бомбили немецкие позиции наши самолёты.
И вот краснинцы наконец дождались. В один из таких тревожных, наполненных ожиданием перемен дней в деревне вдруг появились красноармейцы. Как-то тихо и буднично. Они заскочили в крайнюю от Гороховки избу, потом заглянули в баню, где прятались обитатели подворья. Один из солдат попросил напиться. Спросил, много ли в поселении осталось народу, потом предупредил, что сельчанам нужно срочно уходить из деревни.
-- Дело такое, бабоньки, берите, что унесёте, и дуйте в сторону Озера, а здесь скоро будет передний край. Здешняя высота берега удобна для наших позиций...
-- А фашисты? Где они? -- Саня с тревогой подумала о племянниках. Как с ними пробираться к нашим войскам.
-- По последним данным они сейчас отступили за речку. Но не факт, что там и останутся. Боюсь, начнут наступление, будут отбивать свои позиции. Скоро здесь будет жарко. Так что поторопитесь...
Срочно были оповещены о необходимости покинуть деревню все оставшиеся в ней жители. Саня с Ольгой заметались по подворью, собирая кое-какие вещи в дорогу. Хотя уже ничего стоящего ни в избе, ни в бане не было. Саня схватила портреты своего мужа и свёкра со свекровью, ещё в начале осени перенесённые в баню, Ольга прижала к груди икону Николая Чудотворца, положили кое-что из пожитков в котомки и вышли со двора. У порога обе поклонились избе, где прошла их трудная, полная забот и тревог, но и радостная жизнь, и вместе с Ваней и Лилей пошли в сторону Гороховки. Впереди уже виднелись группы сельчан, вышедших раньше.
Копавшие траншеи вдоль берега Рессы солдаты крикнули сельчанам, чтобы те шли в сторону леса. Это было своевременное предупреждение. Потому что с противоположного берега реки вскоре начался массированный обстрел дороги. Заработала артиллерия.
Ольга схватила за руку дочь и побежала к лесу, до которого было довольно далеко. По снежной целине двигаться было трудно. Снег местами доходил беглецам почти до пояса. За Ольгой бежала Саня, поторапливая племянника:
-- Давай, Ванюшка, шибче беги, нам бы только до деревьев добраться. Торопись, родной.
Ваня, видя, что невысокой няньке Сане тяжело передвигаться по целине, опередил её, торя дорогу.
Взрывы становились всё чаще, всё ближе к беглецам. Ваня повернулся к няньке Сане, проверяя, не отстала ли она.
-- Родной, беги, не оглядывайся...
По проторённой ими тропе бежали следом ещё несколько односельчан. На белом саване поля виднелось уже несколько взлохмаченных, буро-грязных следов от разрывов. И они были совсем близко к убегающим людям. Наводчики противника корректировали огонь именно по бегущим. А до леса было ох как далеко.
Ещё один залп, и взрывы уже совсем близко. Кто-то страшно вскрикнул в грохоте разрыва. В спину толкнуло взрывной волной, швырнуло на землю, сверху накрыло комьями снега вперемешку с землёй...
Нянька лежала, уткнувшись в сугроб. Дядьки Ивана, что жил на другом конце деревни, и в последний раз Ваня видел, что он бежал следом за нянькой, не было совсем.
Парнишка бросился к тётке:
-- Нянька, что с тобой?
Та прошептала синеющими губами:
-- Беги, родной, шибче, спасайся. Я...
Тяжёлый выдох... И Ваня понял, что любимой няньки больше нет. Ольга подбежала к сыну, схватила за руку, потащила к лесу. А разрывы снарядов продолжались...
Вечером все оплакали погибших. В потёмках вернулись из леса, стащили тело Сани и других убитых в воронки, закидали комьями снега с землёй. Потом с рассветом двинулись дальше в глубь леса...
Николай шёл от Юхнова в сторону своей деревни. Город было не узнать. Он оказался почти полностью уничтожен. В грудах разрушенных домов и пепелищ кое-где виднелись лишь печные трубы, как отметины бывших когда-то здесь жилищ.
Его путь лежал на Емельяновку, а оттуда уже на Бабенки, Абрамово. А там как повезёт -- то ли на Малую Среднюю, то ли на Блинову. Главное, скорее добраться до родных мест. В голове крутилась только одна мысль: только бы все были живы. Эти слова были его заклинанием на всём протяжении пути. Николай и сам не замечал, как бормотал почти вслух эти слова, словно они могли исполнить его желание, словно были оберегом для оставшихся в деревне родных.
Столь привычные для глаза родные места, которые были исхожены вдоль и поперёк за его полувековую жизнь, теперь стали неузнаваемыми. Дороги изменили направления, а деревни... деревень почти не было. Лишь пепелища с трубами, да кое-где кирпичные стены без крыш, уже занесённые весенними снегопадами. И в этих развалинах иногда копошились люди -- измученные, истощённые, закутанные в какое-то рваньё. Они долго вглядывались в идущего мимо солдата, словно пытались узнать в нём кого из знакомых.
Чем ближе были родные места, тем отчётливее слышались звуки боевых действий. Его неоднократно останавливали военные, уточняя, куда он держит путь. Мимо шли отряды солдат, двигалась военная техника, в лесу виднелся санитарный пункт. В таком же точно Николай служил совсем недавно, пока не накрыло взрывной волной и не возобновились старые болячки. Военврач с сожалением подписал приказ о комиссовании Николая. Опытные возницы в санчасти были нужны, но военврач хорошо понимал, что контузия, наложившись на старое ранение, может в любой момент привести к летальному исходу.
И вот теперь Николай приближался к заветной цели -- своей деревне. Оставалось только определиться, с какой стороны заходить. Ему несколько раз пришлось менять направление движения. Одни дороги стали непроезжими, другие перекрыты военными расположениями, а тропы в полях заминированными. И теперь приходилось выбирать, как удобнее добираться до Красного. То ли от Труфановой по гороховской дороге, то ли полями пробраться на дорогу от Большой Средней.
Но и тут его ожидало препятствие. За развалинами Бабаевой Николая перехватил очередной патруль.
-- Куда путь держим, отец, -- поприветствовав солдата, поинтересовался старший патруля.
Николай достал документы, объяснил, что идёт в деревню Красное, там его семья.
Проверив документы, командир патруля вздохнул с сожалением:
-- Нет там никого, отец. Передовая линия обороны по берегу реки. Жителей, кто там оставался, отселили в тыл. За рекой немцы. То и дело обстрелы артиллерийские...
-- А в Гороховке? Там у меня меньшая сестра. -- Николай почему-то подумал, что может быть домочадцы перебрались к Маняше.
-- Да ты что, отец, на передовой не был? Какие гражданские, когда немчура шмаляет снарядами куда ни попадя... Да и минные поля кругом. Фашисты мин понавтыкали, мама не горюй. Так что, возвращайся в тыл, ищи там.
Всего несколько верст не дошёл Николай до родной деревни. Но видя разрушения окрестных деревень, реально представлял себе, что творилось в Красном...
На обратном пути, обходя развалины подворий деревни Бабаевой, увидел стоящую у печной трубы закутанную в старый драный полушубок старуху. Она из-под руки вглядывалась в путника. Потом отважилась спросить:
-- Ты, никак Николай Герасимович Наумкин будешь?
-- Точно, так. -- Николай стал прокручивать в голове, кто же эта его собеседница. Судя по всему, она его знает...
-- Не признал, видать. Я Лукерья, жена Сидора Пенькова, с тобой он по молодости в отход ходил...
Николаю сразу вспомнился невысокий, но ладный бабаевец, с которым ещё в царское время работали в артели тестя, а потом уже в советские годы приходилось сталкиваться то по делам артели, то по каким другим житейским. Славился Сидор в деревенском обществе как хороший бондарь. Бочки для домашних нужд Николай у него заказывал. Но... изба Сидора была в другом краю деревни.
-- Здоровья тебе, Лукерья. А как сам? Жив ли?
-- Нету больше моего Сидора. Убили его, и избу сожгли, ироды. Вот, теперь несколько семей ютимся в землянке, кто ещё живой из деревни. А ты, видать, в Красное хотел пройти. Не ходи. Нет там никого. Видала я твоих, как наши наступали. Ольга твоя шла с ребятами. Останавливались тут. Сказывала, что невестку твою, Саню, убило осколком, когда уходили из деревни. Да родича твово Ивана, что на другой стороне жил, да ещё троих с Выселок побило тогда. Их в яме там же на поле и схоронили. Ольга твоя очень сокрушалась, что не довелось выполнить просьбу Сани положить её рядом с мужем. Но куда там, такая страсть кругом. Стреляют, бомбы рвутся...
-- А не сказывала Ольга, куда они пошли?
-- Она всем наказывала, если увидим тебя, передать, что в город идёт, а там видно будет. Ну, иди с богом, Николай Герасимович, твои живы, тебе теперь о них думать надо...
Попрощавшись с Лукерьей и отдав ей буханку хлеба, задубевшую на морозе, и кусок мыла, что нёс семье, Николай пошёл в сторону Юхнова. Согревало душу известие, что жена и дети живы.
Ивану Сударькову потом долгие годы снились кошмары после того рокового взрыва. А начиналось всё обыденно, по уже привычному, давно обкатанному сценарию.
Очередная группа курсантов-минёров отрабатывала на полигоне установку противопехотных мин. Все действовали по чёткому, выверенному до секунды порядку.
И тут к полигону подкатил на "виллисе" политрук школы. Назначили его буквально на днях вместо опытного политработника, пошедшего на повышение и, наконец-то, добившегося направления на передовую.
Прибывший ему на замену краснощёкий, молодой и гонористый выпускник ускоренных курсов политработников красовался новенькой формой, скрипучей портупеей и сшитыми на заказ хромовыми сапогами. Иван это сразу отметил своим опытным глазом сапожника.
Курсанты между собой перешёптывались, что новый политрук пристроен по протекции сюда, в тыл, своими родителями. Вроде бы папаша его в интендантской службе подвизается. Вот дитятю и запихнул в школу минёров. Вроде и на фронте, а и вдалеке от передовой.
Политрук оказался въедлив, заносчив и обидчив. На любой косой взгляд в свою сторону тут же начинал строчить докладные высшему начальству. Задевало его, что курсанты выполняли в первую очередь приказы начальника школы, а не его, политработника распоряжения...
Иван всегда с тревогой встречал проверки политрука. Не раз обращался к начальнику школы капитану Никанорову по этому поводу.
Как-то, когда курили во время передышки между занятиями, опять зашла речь о политруке. Никаноров только пожал плечами:
-- Что я могу сделать? Он по званию выше меня...
-- Подведёт он нас под монастырь, как пить дать, подведёт. Он же не слушает ни советов, ни указаний. Для него главное -- что это он высшее начальство. И все должны ему подчиняться...
Капитан Никаноров, мужик уже давно в возрасте, опытный инженер-сапёр, подготовивший не один десяток групп для подрывной работы в тылу врага, молча оглядывал собравшихся вокруг него курсантов. Что можно сказать этим людям, которые завтра уйдут в тыл к фашистам, чтобы применить полученные здесь знания на практике? Они и сами всё прекрасно понимают. Если руководитель туп, но имеет власть над людьми, это действительно опасно. И может быть, лучше, чтобы он был где-то в своём тылу, где не особенно будет от него зависеть жизнь вверенных ему солдат. Но вслух сказал:
-- Он старший по званию, и нам необходимо соблюдать субординацию... Эх, -- он с тоской бросил в сторону недокуренную самокрутку. -- Что мне вас учить. У каждого на плечах своя голова. Будьте всегда начеку. Вспомните, что говорил вам ранее товарищ Артемьев...
Артемьев был политруком полка, в ведении которого находилась и школа минёров. И до недавнего времени он проводил с курсантами беседы, провожал в тыл врага подготовленные группы...
В тот роковой день группа под руководством Ивана Сударькова уже отработала установку мин и теперь готовилась к их разминированию. Всё шло своим чередом. И тут подъехал молодой политрук. Потребовал группе построиться. Стал что-то говорить о субординации, о том, что курсанты распустились, стоят перед высшим начальством расхристанные. Что на полигоне такой же непорядок, как и в обмундировании...
Говоря это, политрук подошёл к закопанной в песок мине, которую предстояло курсантам разминировать...
У Ивана и стоящих в ряд курсантов глаза стали вылезать из орбит... Дальнейшие события секундной длины в головах свидетелей растянулись на бесконечное время.
Политрук поднимает свой начищенный сапог и его мыском собирается подбить край мины, говоря о том, что она уложена без должной конспирации и враг сразу её увидит...
Иван с криком "Ложись!" бросается на ближайшего к мине курсанта, сбивая того с ног, следуя команде падают на землю остальные курсанты...
В это время мысок сапога достигает края мины...
Взрыв... Комки земли вперемешку с осколками сыплются сверху на лежащих курсантов, кого-то оглушая, кого-то поражая смертоносными жалами...
И много лет спустя Ивану как в замедленной съёмке виделось это приближение сапога к мине и мгновенно вспучивающаяся земля, и опракидывающееся небо...
Отлежав положенное в медсанбате, Иван был комиссован по состоянию здоровья. Было проведено расследование по случаю подрыва политрука. Но свидетелей происшедшего было много. И все они показывали, что убитый сам полез на полигон с уже установленными минами... А Иван в глубине души ещё долго пытался понять, мог ли он предотвратить случившееся... И каждый раз понимал, что это было не в его силах...
В Юхнов он вернулся, в марте 1942 года. Город был в руинах. Наши войска теснили противника по "варшавке" в сторону Рославля. Иван шёл по следам наступающих войск. Помогал сапёрам разминировать минные заграждения вдоль дороги, снимать минные ловушки в развалинах домов Касимовки, Рыляк, Мощины, Добренки, потом окольными путями добрался до Харенок, почти полностью уничтоженных. Впереди были Савинки.
Сердце сжималось от понимания того, что он там увидит.
Вот и каменный мостик. Вернее, то, что от него осталось. Дальше Коритовка... Но где она? Догорающие брёвна бывших изб. Бросился к своей усадьбе, хотя уже издали видел, что вместо избы лишь печная труба да куча тлеющих головешек.
Присел на корточки у бывшей избы, скрутил самокрутку, прикурил от огонька, пробившегося сквозь пепел...
Из глаз непроизвольно потекли слёзы... Ведь торопился сюда, в душе надеясь, что застанет семью. Тлела надежда, что они остались в деревне, хоть люди ещё в Юхнове предупредили, что фашисты всех жителей, оказавшихся на их территории, угоняют в свой тыл, в лагеря... А кого и расстреливают или сжигают в сараях, амбарах, в избах...
На той стороне деревни копошились солдаты. По их разговорам Иван понял, что несколько несгоревших изб заминированы. В том числе и изба няньки Матрёны. Перешёл на ту улицу. Вместе с солдатами разминировал уцелевшие избы, проверил дорогу на наличие мин... Солдаты заняли свободное жильё, а Иван вернулся на родное подворье. Прошёлся по участку. В конце старого сада стояли сгоревшие ульи. Дубок, посаженный отцом в год Иванова рождения уже вымахал в крепкое дерево, и тоже обгорел.
-- И пчёл, ироды, не пожалели, что им люди, -- с горечью прошептал и в сердцах сплюнул. -- Разве ж, они человеки? Нет, они даже не звери... Звери тоже бывают милосердны...
В новом саду заметил небольшой холмик с крестом. То, что не немецкий, сразу определил. Немецкое кладбище было через дорогу, наискосок. И кресты сплошь берёзовые. А этот из старых тесинок сбит по православному обычаю. Сердце захолонуло. Кто из детей? Для меньшого Славки холмик великоват, дочки Вера с Галей тоже вроде мелковаты... Неужели Серёжка или Нюра? Старшие были ему ближе всего. И первенцы, и уже смышлёные...
Присел у холмика, смахнул набежавшие слёзы. Ощутил в душе холодную пустоту и пугающее одиночество. Нет в деревне никого. И неизвестно, живы ли родные. Отец и мать, жена Душка, дети... И что сталось с сёстрами Наташкой и Паничкой и их семьями? Вон догорает изба дядьки Артема и тётки Васюты. Где они? Успели ли уехать по давней привычке к перемене мест?.. А дальние соседи? А тот конец деревни? Почти все избы сгорели, колхозные скотные дворы, амбары и овины уничтожены... Да что же это творится? За что нам такое?... Сколько прошёл сожженных и разрушенных деревень и городов, а увидал родные места, и сердце словно огненным гвоздём пробило...
Долго сидел у догорающей избы. Умом понимал, что в пустой деревне без семьи ему делать было нечего, а уйти сил не хватало. Казалось, покинь он сейчас свою усадьбу, и растворится в небытие вся его прошлая жизнь...
Потом решил отыскать отцово охотничье ружьё: надо было думать и о пропитании. Обыскал похоронки, где раньше прятали кое-что от чужих глаз. Нашёл бочёнок с мёдом. Потом засоленную свиную тушу. Но подпорченную. В еду уже не годилась. Ружья не было. Это огорчило его, но не более. После потери семьи и всей родни, всё воспринималось как-то отстранённо, словно бы и не с ним было...
Свою семью Николай Наумкин нашёл после долгих мытарств на Красном Посёлке под Чемодановом. Родные ютились в съёмной избе, где кроме них было ещё несколько человек. Перебивались как могли. Помогали соседям по огородным работам. По карточкам получали по 200 граммов хлеба как иждивенцы. Хотя какие они были иждивенцы? С раннего утра уходили работать, кто где мог. Да спасал лес. Хоть и не знали здешних мест, а растительность везде одинакова. Как пришла весна, первым делом крапива пошла в еду, молодая сныть, кое-где находили дикий лук, а тут метёлки сосна выбросила, ёлка, потом щавель дикий появился, сергубуш. Всё шло в дело.
Когда Николай по подсказке людей добрался наконец до Красного Посёлка, был уже конец весны. А до этого пришлось даже и в другой район ездить, искать родных.
Как увидел выходящих из избы жену и детей, сердце захолонуло. Ольга превратилась в скелет, обтянутый покрытой пятнами кожей. Не лучше была и дочь, длинная, большеносая, большеротая, с огромными глазами, с крупными руками и ногами, чистый гадкий утёнок. А вот и сын. И тоже тощий, словно на ветру качающийся.
А дети, увидев отца, ещё не веря глазам своим, со слезами бросились к нему:
-- Папка, ты живой, папка...
Николай обнял детей, потом вместе с ними подошёл к жене, вдруг обессиленно привалившейся к стене избы. Прижал её к своей груди, ощутив прилив такой острой и в то же время сладостной благодарности к этой измождённой женщине, его жене, его спутнице жизни, оказавшейся в тылу у врага, вынесшей все бесчеловечные унижения и сохранившей детей, самое ценное, что было в Николаевой жизни. А Ольга наконец почувствовала, как отпускает её сердце ледяной комок горя, охвативший её после гибели Сани. Рядом с ней теперь её муж и опора, который возьмёт на себя часть забот о детях, который поддержит в трудную минуту, который решит те вопросы, которые неграмотная Ольга просто не могла понять...
Вскоре Николай разузнал, где можно найти приложение своим силам. Неподалёку находились выходы глины, и власти возродившегося района планировали вести её добычу для производства кирпича. Ведь почти все деревни были разрушены, большинство каменных зданий взорваны. Требовались рабочие руки и умельцы по формовке и обжигу кирпича. Была организована бригада, куда приняли и Ольгу. Работа была тяжёлая, не для женских рук. Но когда это русских женщин останавливало, да и где другую найдёшь? Зато хлеба теперь как работникам давали по карточкам по 500 граммов.
Вскоре Николай приискал другую квартиру для съёма.
Между делом Николай занялся и лепкой глиняной посуды, смастерив примитивный станок. Хоть и времени почти не оставалось для отдыха после работы на обжиге кирпича, а выкраивал минуту, чтобы и горшков налепить. Самим-то не из чего есть было. Потом соседи попросили и им сделать. Не обошлось и без зависти. Тут же кто-то настрочил в сельсовет, что пришлый Наумкин из глины делает посуду и продаёт её, коммерцией занимается. Прибывшие проверяющие ничего противоправного не обнаружили, но предложили Николаю заняться производством посуды при артели кирпичников. Ведь и посуда людям нужна.
Хоть и инвалидность имел Николай, а от предложения отказаться не мог. Всё подспорье семье, лишняя копейка всегда нужна. Стал с подручными готовить гончарные изделия...
Дети тоже были при деле. Дочь с матерью заготовкой глины занималась, сын Ваня отцу помогал...
Местные сверстники Вани, вернее, все они были отселённые из деревень, где на окраине района всё ещё шли боевые действия, вечерами на отдыхе мечтали о том, как бы сбежать на фронт, тем более, что он был совсем рядом, десятках в двух вёрст от Красного Посёлка, чтоб бить фашиста. Обижались на взрослых, которые их мечты не разделяли, говорили, что надо учиться и помогать взрослым в восстановлении разрушенного боевыми действиями района. Но разве подросткам втолкуешь, что война -- это не игра. Да и ребята это понимали, ведь всем пришлось под фашистами долгих пять месяцев жить. Своими глазами видеть те зверства, что творили с жителями захватчики. И многие боялись, что не успеют отомстить фашистам за поруганное детство, за гибель родных и знакомых...
Ваня как-то поделился с отцом этими разговорами. Николай не на шутку обеспокоился. Он-то не понаслышке знал, каково это воевать. Своми глазами видел, что творили враги с детьми, уничтожая их наравне со взрослыми. Но опытные взрослые старались воевать так, чтобы остаться по возможности живыми, потому что за плечами у каждого были семьи и дети, и именно за них мужики вступали в битву с врагом. А молодёжь была бесшабашная, лезла под пули, не просчитывая последствий. Ваня не отличался безрассудством. Но в погоне за товарищами и он мог убежать на фронт.
Понимали это и в руководстве района, и страны в целом. Может быть, в крайних случаях помощь подростков и была необходима при военных действиях. Но только в крайних случаях. Власти знали, что война когда-нибудь закончится, сколько бы она не длилась. И надо будет поднимать страну из руин. И вот это тяжёлое бремя восстановления ляжет на плечи нынешних подростков, их матерей и сестёр. Потому что мужчины, принявшие на себя обязанность защищать свой мир и свои семьи, если даже не погибнут, то в большинстве вернутся с войны покалеченными. И подростков надо уже сейчас учить, настраивать их на будущую мирную жизнь. Надо их каким-то образом сохранять. В верхах было принято решение о направлении молодежи, достигшей пятнадцатилетнего возраста в сибирские города, куда были в своё время эвакуированы заводы, для обучения и последующей замены работавших там мастеров.
Страшно было отправлять сына в неизвестность. Но Николай сам в пятнадцать лет впервые уехал из родного дома в отход. Правда, тогда рядом был дядька Семён да дедушка Иван... И Ольга страшилась отпускать сына в неизвестность. Как он там будет без семьи, сможет ли выжить, не забалуется ли?..
Летом всех подростков, подходящих под возраст, находящихся на освобождённых от фашистов территориях района, отправили в Кемерово. Там были заводы, там были угольные шахты, там шла интенсивная работа под девизом: всё для фронта, всё для победы.
Ребят и девушек погрузили в теплушки, и начался их долгий путь в сибирский город. Ване был шестнадцатый год, он был шаловливый подросток, но далеко не безумный и не безбашенный. К тому же, перед отъездом у него с отцом состоялся серьёзный разговор. После которого сын обещал отцу действовать по закону, ни в какие сомнительные предприятия не влезать, как бы ни уговаривали приятели. И если ему власть приказала ехать и учиться и работать, значит, надо этот приказ выполнять...
Дорога была длинная, с остановками, с пропусками воинских эшелонов, везущих танки, пушки, такие же теплушки с молодыми солдатами...А когда и пропускали санитарные составы, которые отправляли в тыл раненых...
Многие подростки ни в какую не хотели ехать в неизвестную даль. И некоторые пытались бежать. Иногда это удавалось, и самое интересное, не только парням, но и девчонкам. В основном тем из них, что были азартны и бесстрашны похлеще ребят...
Сманивали и Ваню, но тот только вздыхал. Он дал слово отцу и обещал беречься матери. А их он любил и совсем не хотел огорчать. Да и случай перед этим выпал такой, страшный своим итогом.
Новый знакомец по теплушке Павлуша Лебедев, ровесник Вани, всё кручинился, что не попрощался с подругой. Та была годом старше и служила в банно-прачечном взводе как раз на передовой, под Шуклеевом. Вот Павлуша вбил себе в голову, что должен быть рядом с девушкой, оберегать её.
А тут ещё несколько парней решили, что для них лучшим выходом будет побег на фронт. Что за интерес работать на заводе, да ещё учиться? Надо сейчас бить фашистов, а всё остальное потом.
Улучили момент, когда двери теплушки были открыты, и на полном ходу они стали прыгать под откос. Первый прыгнул удачно. Следом за ним сиганул Павлуша. Да на беду угодил прямо в столб. Ваня увидел, как его тело словно переломилось и полетело дальше под откос. Вряд ли он выжил. Но следом выпрыгнули другие... Что сталось с ними, Ваня так и не узнал. Сопровождающие впредь строже следили за подростками, не допуская в дальнейшем таких побегов.
Как только позволили обстоятельства, Николай Наумкин отправился в родную деревню. Боевые действия были уже далеко от Красного. Ему хотелось самому проверить, можно ли восстановить хоть какое-то жильё, чтобы вернуться в родные места. В освобождённых деревнях района, где было возможно, да и в самом Юхнове население уже стало восстанавливать дома. Впереди была зима, а, значит, надо думать о том, где и как жить дальше. Кто-то оборудовал землянки, а кто-то собирал из разрушенных срубов небольшие холупы.
Красное поразило Николая своей опустошённостью. Словно и не было здесь довоенной небольшой и красивой деревеньки.
По краю берега, где прежде зимой детвора устраивала ледяные горки, тянулись окопы, многочисленные ходы сообщения. Изб как таковых больше не существовало. Кое-где только торчали полуразбитые трубы печей да горы битого кирпича вместо привычных уютных лежанок. На месте родной избы не было даже этого. Брёвна сруба солдаты использовали для оборудования землянок, мастерская была подорвана и развалена. От вещей ничего не осталось. Сгорела даже баня, где ещё год назад обитали Ольга с Саней и детьми.
В развалинах деревни никого не было. Пусто, уныло, только ветер поёт свою печальную песню. Николай шёл мимо развалин избы дядьки Семёна, вот и усадьба обстоятельного и хваткого дядьки Василия, а там дальше изба дядьки Никиты. Вернее то, что от неё осталось. Вот и место, где стоял двор Степана Наумкина, которого когда-то раскулачили. Где он, что с его семьёй? Вот и избы больше нет. Ольга сказывала, что при немцах в ней сельская управа была...
Идёт Николай бывшей деревенской улицей вдоль развалин и вспоминает, какие до войны были усадьбы, кто жил в них. Где теперь односельчане? Большинство мужиков на войне. А семьи их? Кто где... Разлетелись по белу свету... Соберутся ли здесь, в родных местах?
За бывшей деревней на старой дороге на Труфанову стоял вбитый в землю кол с дощечкой, на которой ещё видна была надпись "Мины". Дощечка исхлёстана весенними дождями. И не понятно, есть ли мины, или их давно уничтожили, а дощечку забыли убрать. Такая информация была установлена и на поле, по которому, по словам Ольги, бежали краснинцы во время артобстрела деревни. Где-то там, среди воронок от разорвавшихся снарядов нашла своё последнее пристанище и невестка Саня.
Николай вспомнил, как сокрушалась Ольга по поводу того, что не исполнила просьбу Сани похоронить её рядом с Андреем. Он тогда подумал, а придётся ли ему упокоиться на родовом погосте? Сколько народу сдвинулось с места? Сколько деревень разорено? Где их исконные жители? Хорошо, если просто ушли с родовых мест, а скольких уничтожили фашисты, пришедшие убивать русский народ. И они убивали. С особой жестокостью. Ему ли не знать, собиравшему погибших на местах сражений, перевозившему в медсанбаты раненных солдат и мирных жителей с боевых позиций. До скончания жизни в памяти жертвы, убитые изощрёнными методами. Не только мужчины. С ними понятно. Это воины, защитники... Но женщины, старухи... А дети? Не только подростки, а и младенцы, которые ещё только пришли в этот мир... Никогда и никому он не расскажет всего того, что видел, что пережил в этот первый год войны... Эта была страшнее первой мировой... Может быть, потому что он был уже стар, а может быть, потому что было уже что терять в этой жизни...
Николай добрался до Селиб... Вернее, того, что от них осталось. Всё пространство было искорёжено многочисленными взрывами, старые деревья посечены осколками, сломлены ударными волнами... И не узнать тех мест, которые были дороги сердцу, куда в детстве водили мамушка с тятей...
На родовом погосте тоже были воронки от взрывов, и окопы тянулись вдоль берега, но могильные холмики не тронуты. Солдаты обошли их стороной, почитая покой умерших...
Уже на обратном пути решил наведаться в Гороховку. Старый храм превратился в груду развалин. Кто-то из жителей копался в развалах кирпича, выбирая то, что может сгодиться для строительства жилья. Избы Маняшиной не было. Сгорела. То ли немцы подожгли при отступлении, то ли при артобстреле уничтожило её. На другом конце села виднелось полуразрушенное здание, бывшее когда-то домом отца Катерины, а потом правлением колхоза...
И везде запустение. Народ словно вымер. На гороховском погосте Николай отыскал могилы Катерины и Митеньки. Посидел рядом. Вот и жизнь пролетела. Сколько в ней было всего. И доброго, и жестокого... И остаются лишь вот такие холмики земли, укрывшие то, что было дорого в жизни... Как вехи, как напоминания...
Свернув на дорогу, ведущую в сторону Большой Средней, Николай повстречался с Шаликиным Фёдором. Тот был в дальнем родстве с Маняшиным Василием. Сели у развалин Фёдоровой избы, закурили. Повспоминали общих знакомых. Василий был на фронте. А Маняша вовремя успела с детьми уйти ещё до прихода фашистов. Так что в селе её не было во время оккупации...
Николай с тяжёлым сердцем возвращался в Красный Посёлок. Надежда построить в родной деревне хоть какую-то землянку и жить там с семьёй, с каждым шагом угасала. Сам инвалид, сын, какой-никакой, а всё же отцу помощник, отправлен в сибирские места, там стране нужны рабочие руки. Ольга с дочерью и так надрываются на тяжёлой работе. Некому ему помочь обустроиться в деревне. И родичей ни близких, ни дальних не наблюдается.
Жене с дочерью объяснил положение. Все понимали, что зимовать придётся на съёмной квартире...
Юхнов, апрель 2018 г.