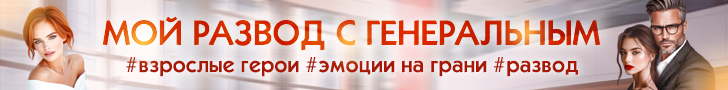Последний Гранчак, сказка Андреевского спуска
Последний Гранчак, сказка Андреевского спуска
Веле Штылвелд: Последний гранчак, сказка
Федор Васильевич носил старое твидовое пальто и некогда добротную черного фетра шляпу с фетровой же узорной, а не дешевой шелковой окантовкой. С годами пол+я шляпы чуть повырвались со стороны власатого черепа известного в совковое время художника, жившего безбедно на сытые подряды от Худфонда… Знавали его в Якутии и Карелии, а в Нарьян-Маре и вовсе чтили за легендарного живописца, поскольку с бодуна как-то расписал оленьи витражи-в+ыворотки размашисто отменными российскими гранчак+ами. Естественно, маслом!
И гранч+аки эти на потревоженных ляповым сочным маслом запели прямо на выворотках, и повалили в кабак якуты и ненцы, а с ними представители и представительницы ещё сорока народов севера, в том числе северные немцы, эстонцы, литовцы и латыши из потомков высланных на Север эсесовцев, которым до седьмого колена было запрещено являться на территорию европейской части Союза…
Впрочем, тщательно перемешиваясь с якутками, эвенками и нанайками, все эти в прошлом прибалтийцы полюбили свой огромный Таймыр и знали его до дыр… Куда не брось, дыра, куда не кинь, дыра, дырой клюкнется, дырой аукнется, юрта одна на десятки российских верст, а в ней всегда строганина, водка и хозяйская жена либо дочь… Жить северянки начинают рано, но и вымирают того еще раньше… И всюду олени в упряжках и без, в национальной одежде и варежках, в половичках и даже на стульчаках…
А гранчаки, особой красоты не имевшие, однако, всюду на подхвате, но северяне, не афганцы, которые даже в свои ковры после Афганской войны с совком стали вплетать в ковровые узоры советские "акаэмесы"…
Чума, юрта, олень, нарты, каюры, олень, белые медведи, ледяные торосы, олень… И так во всём – до вяслиц и гульфиков… А тут забулдыжил «заробитчанин» от украинского республиканского Худфонда и подивил коряков и чукчей. Эвенки с ненцами перепились и потребовали, чтобы и им для их дальних чум нарисовал киевский мэтр столь выразительные гранчаки… Тут уж пошло поехало…
Рисовал Федор Васильевич пристрельно быстро точно, но обязательно во хмельке… Пил и рисовал, подстраиваясь под северный лад – белым на сером, серым по белому, серо-белым на красных кумачовых неликвидах… Присылали с Большой земли кумача впрок, так что каждого оленевода можно было бы запросто обернуть в огромный красного кумача кокон… Гранчаки Федора Васильевича чуть как бы подкошенные вносили в северные быт доподлинно русское удовлетворение и мироупокоение… Но приехали тихие и мирные представители какого-то московского министерства, опекавшегося проблемами северных народов и поворотили Федора сына Василия в Киев… Мирно поворотили, упоив вусмерть и упаковав в почтовом отделении самолета… Так и проспал он весь путь до Киева – гений невенчанный, мужичок незлобивый… А его место на Севере заняли психотерапевты с целью борьбы с гипертрофически возросшим местным алкоголизмом…
Красные кумачи с подкошенными белыми стопками стали потихонечку изымать, постепенно переменяя их на серп и молот необъятно великой Родины…
А что наш Федор Васильевич? Он, как водится, пережил и ГКЧП, и свалившуюся на всех Независимость, и даже тухлое прикрытие Худфонда, из которого напоследок вместо обещанных ему неоплаченных гонораров прихватил несколько дюжинных ведер ярких анилиновых красок, запасся пресс-картоном, который использовался в прежние времена для остекления выбитых форточек в студенческих общагах и… выпал на Андреевский спуск продавать сочные разноцветные гранчаки вкупе с цветами и бутылями… Всё это милое совершенство обязательно проносилось перед зрителем в какой-то умопомрачительной круговой джиге, сразу хотелось выпить и непременненько закусить… Хватало на закусить и выпить и самому творцу. Он работал по десять-двенадцать полотен в неделю, чтобы восстать на месте свободного художника-продавца в каждое следующее воскресенье… Со временем к нему и его удивительному творчеству привыкли и киевские ценители… Он стал раскупаться… С утра и до вечера… Вот вечером не всегда всё получалось гладко…
Несколько раз на гранчакового мэтра совершали нападение бессовестные киевские сявки, выворачивая старику не всегда пустые карманы и даже повыбивав ему чуть ли не полрта зубов, пережевавших не одну тонну моржатины и оленины…
Но философический склад ума не позволял сломаться творцу… Хотя дома мельтешили жена и дочь и мешали сосредотачиваться на объектах, главным из которых обязательно был гранчак – для того чтобы всякий новый натюрморт пел! Правда, гранчаки в процессе их рисования частенько бились, и чтобы не было, как в песне поется:
Стаканчики граненные упали со стола –
упали и разбились, а в них – любовь моя…
Жене и дочери всё-таки приходилось всё чаще и чаще осуществлять тест-контроль. А тут ещё случилась одна немалая напасть… Стали заканчиваться бросовые неликвид-краски, полученные при прощании с Худфондом, и стали сочные тона на картинах Федора Васильевича истончаться, рисунок стал более ажурным, пока почти не поблек… вовсе. Ибо пришло время – и краск кончились все. А на новых денег не стало… Все думали, что это уже и точка в его творческой биографии, и его вытертое драп-демипальто, выдаваемое стариком за твидовое, и его сношенная напрочь черная шляпа исчезнут со спуска навсегда… Но ещё в прошлое воскресенье этого не случилось…
Я видел его последний шедевр – несущуюся по белому фону белую ностальгическую кутерьму… Свой последний, впервые расколотые надвое гранчак он нарисовал белым по белому… Знакомые с его творчеством художники и любозрители плакали. Но только не он! Мэтр стойко ждал своего последнего покупателя! И он пришёл…
Это был худощавый, негромкий и очень даже невысокий юноша с очаровательной щуплой девчушкой с посиневшими на ноябрьском ветру губами. Она кротко держала своего рыцаря за руку. Тот смотрел на картину.
– Шедевр! – важно и с должным пафосом объявил свой вердикт продавца художник!
– Так, це шедевр! Мой отец на Таймыре провел в ссылке почти десять лет жизни. Он много рассказывал нам о ваших босяцких бух-флагах, но на вывоз с Севера они были запрещены, а он имел, не смотря на запрет на отлучку из своего дальнего оленехоза, где он в то время работал в бухгалтерии счетоводом – то ли оленей, то ли самих пьяных оленеводов... Так и привез и бухал под ними до смерти… Упокой Господи его страждую душу…
– Отож, – согласился стоявший рядом в пестрой толпе художников и любозрителей знакомый всякому на Андреевском спуске писатель.
– Отже, шедевр, – резюмировал автор.
– Отож, – сострадательно выдохнула толпа.
И гениальный Гранчак был продан. Мелькнула немалая купюра в расхожей зелени, все ахнули, картину завернули, а старый художник внезапно растворился, слово истаял по молекулам в сумерки ноябрьского предвечерья...
Но если бы в этот миг было чуточку тише, все бы услыхали, как где-то внутри картины в последний раз звякнули осколки последнего Гранчака, и старый Мэтр неторопливо прошел мимо них – в вечность.
#65913 в Фэнтези
#9315 в Городское фэнтези
#9775 в Юмористическое фэнтези
Отредактировано: 18.04.2018