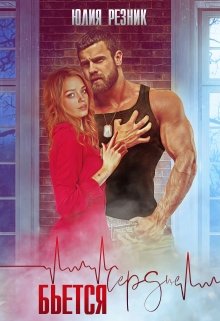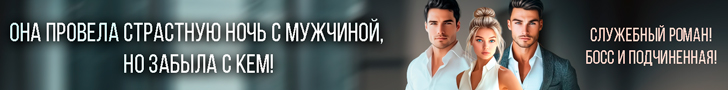Пьяное молоко
Пьяное молоко
Дорожки злых слез бежали, извиваясь, по лицу юной девушки. Повиснув на остром подбородке, они капали то на яростно вздымающуюся грудь, то под ноги — на когда-то дорогой, а ныне потертый ковер.
— Глория, дочь моя, — дрожащим голосом произнес немолодой статный мужчина, сидящий за тяжелым дубовым столом, — Ты должна понять. Честь семьи...
— Велика честь — прятать дочь от людей! — вскрикнула та, размазывая солоноватую влагу по лицу. Неверной рукой она задела один множества торчащих из ее тела сосков, из которого тут же начала сочиться белесая жидкость.
— Я уже все объяснил... — в голосе ее собеседника чувствовалось легкое заискивание, но было видно, что и в такой подобострастной манере он будет твердо стоять на своем, — Мы сейчас не в том положении, чтобы диктовать обществу свои условия.
Глория перестала спорить, и лишь хныкала, раскачиваясь взад-вперед у двери.
— Наш дом обеднел, — еще мягче продолжил отец, — И все, что у нас осталось — это старые связи твоей матери. Мы не можем позволить себе такую роскошь, как выход в свет с больной дочерью. Слабость сейчас — дурной тон. Прости меня, Глория.
Девушка яростно замотала головой и вылетела из кабинета. Этот разговор проходил не впервые, и каждый раз заканчивался одинаково: побегом дочери из дома.
Мужчина с трудом оторвал взгляд от мокрых пятен на ковре, и, подняв массивную трубку внутренней связи, позвал дворецкого. Не прошло и пяти минут, как слуга, постучавшись, вошел в кабинет.
— Сэр? — осведомился моложавый мужчина с щеками настолько румяными, что производили впечатление дерзостное и неуместное.
— Если увидишь, что Глория пытается покинуть поместье... Не препятствуй ей. Но скажи батракам, чтобы поглядывали на лес и в поле. И тогда я не оставлю их своей милостью.
— Да, господин, — просто ответил дворецкий. — Полагаю, леди извещать...
— Правильно полагаешь, — прервал его глава хозяйства, тяжело опускаясь в кресло. — Со мной дочь разговаривать не станет... Сообщи мне, коль будут вести. Если не объявится и на третий день, собирай охотников и егерей.
Дворецкий кивнул и так и остался стоять в полупоклоне.
— И еще... Пришли молодого вина из погреба, — после непродолжительной внутренней борьбы приказал отец.
Глория лежала, свернувшись, на привычной постели лесного мха и со смесью страха и сладости ожидала своих вечных любовников и детей.
Шорохи леса скрадывали шаги приближавшегося зверья, но девушка уже научилась выделять мягкую, осторожную поступь пушистых лап, украшенных когтистыми пятицветиями. Отец отказывался понимать ее боль, а мать частенько хлестала склонную к истерике дочь по щекам. Свое утешение она находила в теплых телах жмущихся к ней животных.
Глории не приходилось даже искать покинутых пестунов: лисят, волчат, медвежат. Если жестокий охотник убивал самку и оставлял детеныша на произвол судьбы, он, ведомый запахом молока, как мог рвался к обезображенной дочери выродившегося дома.
Вот и сейчас отовсюду слышался писк: из глубин леса к ней ползли обреченные щенки. Один за другим они тыкались к ней ласковыми, славными мордочками, и Глория ласкала их, чувствуя свое необычайное высшее предназначение… Как жаль, что это чувственное единение было доступно ей лишь в лесу, а не дома, где и проходила большая часть ее тусклой, безрадостной жизни!
«Третьего» дня ждать не пришлось; Глория вернулась в тот же вечер, когда солнце зашло, и лишь огни поместья освещали промозглый лес. Был уже разгар осени, и убегать надолго ей, изнеженной мягкими перинами и одеялами, было бы излишне мучительно. Безучастная ко всему мать и не заметила отсутствия дочери, и, после того, как служанки оттерли ее перепачканное землей тело в чане с горячей водой, девушка спустилась к ужину будто б и не уходившей из дома.
Разумеется, болтливые фрейлины давно разглядели следы укусов на покрывавших все ее тело сосках, да и кто-то из батраков поговаривал, что видел хозяйскую дочь «сношавшейся» с оравой лесных зверей… Слухи расползались с пугающей стремительностью, что отнюдь не прибавляло лоска однажды угасшему дому. Бесцеремонным холопам мешало открыто проявлять неуважение лишь сострадание к Мату, отцу семейства, который справедливостью своей никогда не обделял темных людей, работающих на барина.
В главном зале особняка царило необычайное оживление; горничные выстроились в ряд, приветствуя какого-то гостя. Даже вечно отсутствующие глаза матери, смотревшей на них из-за высокой балюстрады, заблестели тенью былого игривого интереса… Засмотревшаяся на нее Глория впервые, быть может, за свою короткую жизнь, поняла, почему ее отец когда-то влюбился в эту потерянную в мыслях женщину. Мат оживленно размахивал руками, иногда похохатывая, и вел кого-то…
Первым желанием Глории было спрятаться, чтобы никто не увидел ее безобразного тела, но потом та же упрямая, бунтарская привычка, что лежала в корне ее истеричной натуры, толкнула ее вниз, к ступеням. «Как я буду выходить в свет, если сейчас боюсь показаться какому-то бродяге?» — нашептывал ей демон гордыни. Она спустилась к отцу с гордо вздернутым подбородком, чинно придерживая каркас платья.
Гость оказался молодым человеком со взглядом скучающего садиста, роста чуть выше среднего, и зашел он прямо в сапогах, оставляя за собой грязные лужицы. Отец откровенно перед ним заискивал, и Глории захотелось сделать что-нибудь гадкое, чтобы любое положительное впечатление от их дома, купленное ценой унижения Мата, было испорчено.
— А вот и моя дочь. Глория, познакомься с врачом: Джабиром ибн Аббасом.
Кроме восточного имени, темных волос и карих глаз, ничто не указывало на его принадлежность к арабским народам. Глория никогда вживую не видела пустынных жителей, но миниатюры в учебнике позволяли составить какое-то представление об их внешности… Кровь европейки в ней пробуждала жалость и презрение к влачащим жалкое, по ее представлениям, существование бедуинам, хоть стоявший перед ней мужчина и не располагал к проявлению подобных чувств.
Доктор снял широкополую шляпу и легонько поклонился. Девочка ответила чопорным кивком. Жестокие глаза его деловито пробежались по соскам, покрывающим лицо и плечи инфанты, и он медленно вытащил огромные, костистые руки из перчаток. Они обещали то ли отдохновение, то ли боль, и девочка внезапно почувствовала волны удушающего, подчиняющего волю ужаса, исходившие от этого чужого, страшного ей человека. Мат заливался соловьем, но ни Джабир, ни Глория его не слышали; между ними устанавливалась мрачная, односторонняя связь мучителя и его жертвы.
— Я хочу повторить при больной, — Медленно, членораздельно проговорил пришелец, оборвав Мата на полуслове, — Любые методы лечения я оставляю на свое усмотрение, и вы, в свою очередь, обещаете не мешать процедуре.
Было слышно, что в обыденном разговоре у Джабира случались проблемы с дикцией, и преувеличенно разборчивая его речь могла б вызывать комический эффект… если бы не темный смысл, которым, казалось, было пронизано каждое его слово.
— Э-э-э… Да, уважаемый доктор, конечно же, мы согласны…
— Я хочу услышать больную на этот счет, — все так же холодно перебил гость.
Глория чувствовала, что не имеет права отказаться; после долгой дороги отправлять врача восвояси эгоистичной выходкой ребенку не позволяло обостренное чувство семейного долга. Однако в самой постановке вопроса было нечто настолько отталкивающее, что соглашаться было попросту страшно.
— Я не больная… — пролепетала она, — Меня зовут Гло…
— Конечно больная, — расплылся в пугающе широкой улыбке пришелец, — Именно поэтому я и здесь. Промыслом Всевышнего ты явилась на этот свет порочной, несовершенной. Я же, скромный слуга человечества, готов помочь тебе избавиться от своей боли… Ты ведь хочешь стать нормальной? Избавиться от недуга?
— Да… Хочу, — еле слышно прошептала девочка. На самом деле, в ее юной головке никогда не укладывалась связь между ее болезнью и причинами, почему она не может быть представлена свету. Ей, может быть, и не хотелось лечиться, но нравилось осознавать свою особость, и ей казалось, что мир взрослых может принять ее такой, не меняя. Опять же, эти покинутые щенки…
— Решено, — доктор с сухим треском хлопнул по протянутой руке Мата, не пожав ее, — Помните, что лечению вы не мешаете. Вы, верно, знаете, с кем имеете дело, раз позвали меня.
Глория заметила, что лицо отца слегка посерело, но взгляд его оставался твердым.
«Наверное, это для моего же блага», — подумала она. Поднимаясь к себе, наверх, девочка пыталась представить себя в роли обычной дочери знатного рода, и не могла.
Разумеется, болезнью Глории занимались разные доктора; Мат спустил половину своего состояния на специалистов со всего света. Все они говорили примерно похожие вещи: порок врожденный, оперировать нельзя: слишком много сосудов, велик шанс заражения и образования неизлечимой смертельной опухоли. Кое-кто из них отказывался от денег, ссылаясь на то, что работа не выполнена, кто-то задерживался в поместье надолго, проводя бесчисленные бессмысленные опыты и обескровливая беднеющую семью.
Джабир поначалу вел себя так, будто бы был из последних: потребовал ежедневное жалование «на расходы» и первую седмицу, казалось, не занимался вообще ничем. Впрочем, очень скоро дворецкий донес Мату, что доктор опрашивал мужиков и, кажется, собрал каждую сплетню о его роде и его дочери. Небылицы ходили всякие, а ибн Аббас не поленился нанести визит в соседние поместья и порасспрашивать о Глории и там. Так вся округа узнала о том, что Мат совсем отчаялся и нанял араба, чтобы спасти «малахольную». Отец терпел и на провокации не поддавался.
Между тем, слухи ходили всякие: и о Черных Мессах, якобы проходившись в тихом поместье, и о сношении полоумной жены Мата со зверьем, а некоторые и вовсе поговаривали, что весь их род по женской линии страдал от подобной многососковости. Джабир щедро награждал своих собеседников: кого ученой беседой, кого обильной выпивкой, но возвращался всегда с плохо скрываемым раздражением. Было непонятно, то ли он привык гораздо быстрее справляться с поставленной перед ним задачей, то ли просто вел себя так, не считая должным выказывать уважение.
Глория притихла и почти не выходила из комнаты, принимая лишь служанок и учителей. Атмосфера нависшего над поместьем несчастья мучила ее, но более того страшил и отвращал образ таинственного араба, который смотрел на нее как на предмет изучения, а не живую девочку. Казалось, ему было неведомо само понятие милосердия, что не вязалось у нее, перевидавшей когорту самых бесчувственных шарлатанов, с самим словом «врач».
Поэтому, когда однажды ночью она проснулась с раскалывавшейся головой, привязанной к стулу, без сорочки, в ее искреннем, первобытном ужасе не было удивления. В глубине души она знала, что примерно так и должны были развиваться события.
Джабир вышел из-за плотной белой занавески, держа ланцет, и безо всяких объяснений принялся обрабатывать участок плоти на испуганно вздымавшейся груди девушки. Глория, парализованная страхом, лишь слабо подергивалась в прочных путах. В ее отравленном паникой сознании они с ибн Аббасом существовали в какой-то отдельной, больной и извращенной вселенной, так что звать на помощь ей казалось бессмысленным.
Закончив обработку, врач все так же молча, со злобной сосредоточенностью оттянул кожу пациентки и занес лезвие… Глория не могла смотреть на то, как ее тело раздается под медицинской сталью; она отвернула лицо, и тут же все ее естество пронзило острой, ни на что не похожей болью. Она выгнулась и закричала, широко распахнув глаза и сотрясаясь в неистовой муке. Сквозь красную пелену, застлавшую ее взор, она увидела, что врач с интересом разглядывает зажатый в окровавленной перчатке комочек розового мяса — один из сосков, уродовавших ее тело.
На крики юной госпожи уже вовсю сбегались слуги: слышались топот и приглушенные голоса. Джабир молниеносно продезинфицировал рану и наложил на нее повязку — он закончил за миг до того, как дверь вылетела под не по годам крепким плечом Мата.
Ибн Аббаса, спокойно стягивавшего перчатки, выволокли из комнаты, несмотря на его шипение по-арабски и тускло блеснувшие ножны у пояса. Отец бегло осмотрел медленно набухавшие от крови бинты и крепко обнял дочь, стараясь не потревожить рану. Глорию, в полубессознательном, сломленном состоянии, на руках отнесли обратно в ее покои, где была найдена тряпочка, пропитанная дурманящей смесью. Внутренние двери в поместье до той ужасной ночи обычно не запирались, так что злодей без труда проник в незащищенную спальню.
На следующее утро Глория проснулась от доносящихся снизу криков. Одна из ее прислужниц, дежурившая при постели всю ночь, прикорнула в богатом, но засаленном кресле, куда ей вообще-то садиться не позволялось. Медленно сняв с себя одеяло, девочка бесшумно спустилась на пол и прильнула к щели между половицами.
Мат яростно бранил на свою беду нанятого им доктора, изредка стуча кулаком по столу. Время от времени он замолкал, видимо, делая затяжку из дорогой трубки — в последний раз Глория видела его курящим несколько лет назад, после первого своего побега из дома. В его громоподобные филиппики изредка вклинивался резкий, раздраженный голос Джабира. Девушка не могла разобрать слова, но догадывалась, о чем идет речь.
Она вовремя услышала, как кто-то подходит к двери, чтобы юркнуть в кровать и притвориться спящей. Судя по приглушенному шипению и возне, вошла вторая ее фрейлина, которая будила незадачливую подругу. Они вдвоем мягко окликнули Глорию, «разбудив» ее, принесли ей умыться и одели, стараясь не касаться побуревших, присохших к ране бинтов. Любое прикосновение к покрывавшим ее тело соскам вызывало у девушки болезненное отторжение и вновь пробуждающийся ужас, так что служанки неловко вертелись вокруг своей подопечной, боясь лишний раз до нее дотронуться.
Девочка отказалась от завтрака под предлогом отсутствия аппетита, и вместо этого спустилась к кабинету отца. Матери нигде не было видно, и Глория с горечью подумала, что даже зловещие события, потрясшие их уединенное поместье, не смогли отвлечь ее от бездны собственных мыслей и многочасовых простраций, во время которых глаза этой женщины стекленели, и она могла подолгу смотреть, не мигая, в стену или потолок.
Ярость Мата, видимо, поутихла, так как лишь змееподобный ибн Аббас что-то вкрадчиво, но с нажимом доносил до мужчины. Отец издавал слабые протестующие возгласы, но араб будто б и не замечал собеседника, медленно и уверенно что-то ему втолковывая.
Неожиданно дверь распахнулась, и в пороге показался Мат, чье лицо было бледным от горечи и бессонной ночи. Он бросил на дочь отчаянный, помутневший взгляд, и ответил на немой вопрос, читавшийся в ее глазах:
— Господин Джабир остается, чтобы продолжить лечение. Прости, милая… Нам придется пройти это всё до конца.
Глория лишь хватала ртом воздух, не в силах поверить в столь чудовищное, немыслимое решение. За спиной ее отца возник силуэт ее мучителя, от которого, казалось, веяло бессмысленной, иссушающей злобой пустыни.
— Пойдем, больная, время менять повязки. — Фальшиво улыбнувшись, произнёс он.
Будто бы издеваясь над пациенткой, Джабир перевязывал ее в своей комнате — той самой, где провел свою омерзительную над ней операцию. Не причиняя ей лишней боли, он с любопытством изучал оставшийся уродливый рубец, отмачивал бинты и накладывал новые, поверх дурно пахнувшей мази. Глория боялась, что таким образом он будет отрезать соски по одному, и эта мысль внушала ей ужас; неизвестность же мучала ее, изматывая рассудок. Доктор также завел манеру подолгу расспрашивать девочку обо всем, что касалось ее болезни, и, под действием постоянно курящихся удушливых благовоний, она, теряясь в его безумных карих глазах, рассказывала ненавистному чужестранцу гораздо больше, чем потом могла вспомнить. Его таинственная сила и циничный, нечеловеческий интерес к объекту своих исследований вызывали у девочки ужас и омерзение.
Мат избегал встречи с дочерью, подолгу сидя в своем кабинете, напиваясь и мрачнея. Суеверные слуги, напуганные слухами о том, что араб-де подчинил своей воле всю барскую семью, один за другим покидали поместье в поисках новых хозяев — не таких снисходительных, но и не имевших дела с язычниками и их богопротивными ритуалами. И вместе с уходящими из ее дома людьми, в голове Глории одна за другой умирали желания и мечты; измученная чужеземным врачом, она становилась миниатюрной копией своей матери. Ибн Аббас мог подолгу оставлять девушку в своей комнате, ни о чем уже не спрашивать, лишь пытая ее тяжелым взглядом из-под густых, нахмуренных бровей. После таких встреч Глория целыми дянями ходила будто б в тумане.
Ровно через месяц после начала «лечения» Джабир вновь пришел в комнату пациентки ночью, на этот раз даже не скрывая своего присутствия. За нехваткой прислуги двери больше не охранялись, а запираться на ночь Глория так и не начала, потеряв всякое чувство опасности и слепо бредя к собственному, как ей казалось, концу. Араб молча швырнул ей, привставшей в постели, свой грязный дорожный плащ и поманил за собой. Девочка безвольно накинула дерюгу на плечи и подошла к нему.
Они крадучись выбрались из поместья и побрели неосвещенными тропками в сторону поселения батраков. Все сильнее становился запах навоза и какого-то мускуса, само присутствие которого в воздухе заставляло Глорию испытывать первородный женский страх.
Чудовищный врач затащил скулящую девочку в широкий амбар и, утратив последние крохи притворной благожелательности, свалил ее на зловонный пол слабым ударом в затылок. До Глории донесся звук задвигаемого засова и что-то еще: низкий, гортанный рык из дальнего конца помещения. После непродолжительной возни Джабир зажег несколько масляных ламп, привинченных к дощатым стенам и, оттащив больную, накрепко примотал ее бечевой к одной из опорных балок. Голова девушки лишь моталась из стороны в сторону, изо рта непрерывно бежала слюна, смешиваясь с капающим на солому молоком. Ночная рубашка ее давно уже промокла насквозь, но она не чувствовала холода: лишь желание, чтобы все поскорее кончилось.
Впрочем, когда ибн Аббас вывел из темного угла помещения четырех бойцовых собак на цепи, утерянные, казалось, эмоции вернулись к измученной девочке, воплотившись в исторгнутом ей грудном крике. Она панически извивалась, пытаясь разорвать путы, но те лишь сильнее врезались в ее изнеженную плоть. Все так же молча Джабир наблюдал за ее мучениями, медленно, по звеньям, отпуская цепь; громадные псы же рвались в стороны, пытаясь добраться до лакомого, беспомощного существа. Зрачки Глории расширились до предела, занимая всю радужку, глаза ее казались пустыми, выхолощенные непрерывно сыпавшимися на нее ужасами.
Араб, наигравшись с несчастной, спустил свою свору, и мускулистые, лоснящиеся псы ринулись к своей жертве, разбрызгивая слюну; огромные их клыки слабо поблескивали в масляном свете. Последним, что почувствовала Глория, теряя сознание в апофеозе своего ужаса, было зловонное дыхание и клацнувшие перед ее лицом зубы. То, как ибн Аббас могучим цепи рывком повалил всех четырех собак на спины и оттянул обратно к себе, она уже не увидела.
Глория очнулась у себя в комнате, на чистых перинах, ее обнимал опухший от слез и бессонной ночи отец. Почувствовав, что дочь проснулась, он, всхлипывая, расцеловал ее лицо и, подняв на руки, поднес к зеркалу. Девочка тупо смотрела на ссохшиеся, ставшие совсем крошечными соски, покрывавшие ее тело. Теперь они выглядели как обычные родинки, и с тех пор из них никогда не текло молоко.
Несмотря на заверения доктора, который той же ночью покинул Мата, до последнего гроша выплатившего ему гонорар, девушка так до конца и не оправилась от причиненной ей травмы. Ее любовь к живым тварям сменилась ужасом и отвращением; однажды Мат заметил странное, усиливавшееся зловоние в комнате дочери. Та, повредившаяся умом, будто б этого не замечала, и, отодрав в отсутствие девочки несколько половиц, отец с ужасом обнаружил спрятанные под полом обезображенные тела щенков и нескольких кошек с выдавленными глазами и переломанными лапами. В гневе и ужасе он написал письмо Джабиру, но так и не получил ответа. Позже он случайно услышал о большой междоусобице на Востоке: среди многих тысяч ученых, поэтов и государственных деятелей, сваренных в том кровавом котле, оказался и ибн Аббас.
Неизвестно, во что бы выросла маленькая сумасшедшая, если бы момент пробуждения, предсказанный арабом, так и не наступил. Но Глория, похоже, и впрямь пришла в себя, и вновь сбежала из дома, пытаясь найти привычное утешение. Однако на сей раз никто не приполз к ее ссохшихся от ненависти грудям. Уйдя далеко от дома, она окончательно заблудилась в лесу, а потерявший все свои души Мат не мог послать ей на помощь, и сам отправился на ее поиски, вооруженный лишь фонарем и антикварным ружьем.
Он нашел ее полуразложившееся тело лишь несколько месяцев спустя: судя по ранам и тому, что труп не был съеден, Глорию задрала медведица, защищавшая свое дитя. Говорят, Мат, сломленный горем и чувством вины, повесился на том же дереве, под которым умерла его дочь, но здесь мой рассказ подходит к концу, и начинаются досужие толки суеверных крестьян.
#2109 в Триллеры
#660 в Психологический триллер
#2040 в Мистика/Ужасы
18+
Отредактировано: 05.10.2016