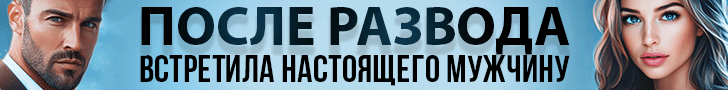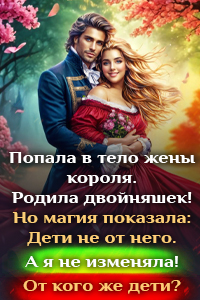Пять касаний
Часть 1
Он не был доволен таким поворотом, это легко читалось в его лице. В его жемчужно-серых глазах, поддёрнутых дымкой усталости, с кругами под ними, которые выделяются невероятно сильно, будучи подсвеченными светом настольной лампы. Её мощности хватает только на то, чтобы освещать часть стола прямо перед Эдвардом и его самого до пояса, и только поэтому предмет на столешнице так очевидно бросается мне в глаза. Будь он лежащим слева или справа где-нибудь у края стола, я бы заметила не сразу. Но я вижу, и у меня тоже есть причины быть недовольной.
– Не смотри на меня так. Мы договаривались, что ты будешь убирать пистолет в сейф в ту же минуту, как приходишь домой. Это было моим единственным условием, и ты пообещал.
– Ты бы всё равно вышла за меня, Белла, – откинувшись в кресле, говорит Эдвард. На нём полностью расстёгнутая рубашка бледно-голубого оттенка, рукава которой завёрнуты до локтей, и правой рукой на моих глазах он берёт пистолет со стола. Я ненавижу оружие и то, на что оно способно в руках истинно злого человека, но мой муж не такой. Он не плохой человек. Муж… иногда всё ещё странно и непривычно думать о нём, как о муже. Несмотря на то, что он является им для меня вот уже четыре года, и без Эдварда Каллена я бы точно никогда не оказалась живущей в особняке в Неаполе с пятью спальнями, широкой панорамной террасой и исключительным видом на залив и Везувий, а также открытым и закрытым бассейнами.
– Мэттью пойдёт раньше, чем успеем оглянуться. С ним ничего не должно случиться. Убери это, Эдвард, – прошу я. – Тебе ни к чему это сейчас. Снаружи полно охраны.
– Не должно и не случится, – то редкий случай, когда при мне в голосе Эдварда проявляются жёсткие нотки. В восемнадцать я думала, что всему виной ограниченность моего мира, из-за чего они периодически проскальзывали в его словах при общении со мной, но к двадцати поняла, что он просто такой, и всё. Что этого, вероятно, не могло в нём не быть, но лично я совсем ни при чём. А теперь мне почти двадцать девять, и Эдвард и наш десятимесячный сын это единственная семья, что у меня есть, и другой уже не будет.
Эдвард отъезжает на кресле назад, пока оно не упирается в стену, где за картиной спрятан сейф. Я никогда не пользуюсь им, но знаю код наизусть. И, как бы то ни было, я обучена обращаться с оружием. Лично Эдвардом. Он сказал, что я должна. На случай, если от этого будет зависеть моя жизнь. Должна и уметь стрелять, и запомнить код. Ради доступа к деньгам на экстренный случай, документам и пистолетам. Их в сейфе больше одного. От жизни с тем, кто когда-то возглавит мафиозную группировку, вряд ли разумно ожидать простоты и спокойствия до самого окончания этой самой жизни.
– Ты уберёшь?
В полном молчании и безупречной тишине звук снятия пистолета с предохранителя застаёт врасплох, и Эдвард какое-то время смотрит на оружие, прежде чем навести его прямо на меня, но я не чувствую и толики того страха, который охватил меня в подобной ситуации в прошлом. Я уже давно не та Белла и храбро подхожу к Эдварду, останавливаясь, лишь когда дуло упирается мне прямо в грудь. Точно по центру грудной клетки. Прохладное и идеально круглое. Эдвард моргает, а потом просто наблюдает за движением моей руки, обхватывающей пистолет и откладывающей его на книжный шкаф. Мне не приходится отнимать, нет, даже если именно так это и выглядит. Может показаться, что если однажды я и захочу уйти, то Эдвард никогда меня не отпустит, ни саму по себе, ни уж тем более с его сыном, но я и не хочу никуда. Всё это было моим выбором, когда я могла принять другое решение и остаться верной другим устоям, но от былой приверженности во мне мало что осталось. Вдохнув, Эдвард подносит правую руку чуть выше того места, куда ещё недавно был направлен его пистолет, и, помедлив, касается серебряного крестика. Той единственной вещи, что осталась мне от меня прежней.
Десять с половиной лет назад
– Доброе утро, Белла.
Я вхожу на кухню в очередное утро своей однотипной жизни. Каждый день похож на предыдущий. Проснуться, заправить кровать, умыться и привести себя в порядок, надеть одно из платьев длиной до пола, висящих в шкафу. Все они неудобные и тесные и, прилегая к вспотевшему телу, вызывают лишь дискомфорт. Он не так ощутим в прохладное время года, но сейчас уже весна, и с каждым днём становится всё теплее. Я изнываю от духоты и раздражения, выступающего на коже, и чешусь, когда никто не видит. Но в школе невозможно столь часто находиться вдали ото всех. И потому, возвращаясь домой и раздеваясь в своей комнате, я просто не могу остановиться, и спустя несколько движений на коже ног всякий раз проявляются кровоточащие царапины. Восемнадцати лет вполне достаточно, чтобы привыкнуть к этому и множеству других обстоятельств. К отсутствию вещей вроде джинсов и шорт, к шершавым страницам Библии и запаху ладана в церкви, если ты ходишь туда каждую неделю столько, сколько себя помнишь, к невозможности, а потом и нежеланию с кем-то подружиться и даже к тому, как красивые одноклассницы в красивой одежде говорят всякое за твоей спиной. Но и спустя всё это время я не могу перестать задаваться мысленными вопросами, отчего у них всё иначе. Другая жизнь, другие родители, другой мир. Мир, в котором мои ровесницы ходят не только до школы и обратно, но и гуляют с подругами, бывают в кинотеатре, вместе весело проводят время и встречаются с парнями. Я знаю об этом, потому что у меня есть глаза. И эти глаза видят целующиеся парочки как в школе, так и через окна моей комнаты, где я провожу вечера, если не смотрю телевизор с родителями. А я смотрю его редко. Они всегда переключают с большинства развлекательных передач. Не поймите неправильно, я люблю родителей, просто я любила бы их и продолжала бы верить в высшие силы, победу добра над злом и жизнь после смерти и в другой одежде.
– Доброе утро, мама. Доброе утро, папа.
После молитвы и совместного завтрака мама собирает мне волосы в тугую косу, и я отправляюсь в школу на велосипеде. Папа задерживается дольше моего, но и он тоже скоро уедет. В местный полицейский участок, где он занимает должность шерифа нашего маленького городка, где все друг друга знают. Здесь невозможно остаться незамеченным, и если кто-то оказывается в Форксе проездом, то об этом человеке, его семье, если он был не один, и обычно первоклассной машине судачат ещё на протяжении некоторого времени после отъезда. Но сегодня первый раз, когда я слышу обсуждения и перешёптывания прямо в школе. Со мной, как и обычно, никто не говорит, в некотором роде я невидимка, сливающаяся со стенами, и потому моё присутствие в двух-трёх шагах не причина, чтобы заканчивать с разговорами, едва увидев, как я приближаюсь.
– Он такой охренительный. Ты бы его видела, – восклицает Джессика у индивидуальных школьных шкафчиков. Я не слушаю, но слышу. Просто потому, что у меня есть уши. Джессика учится со мной в одном классе. Красивая, достаточно рослая, с грудью, которую подчёркивает довольно низкое декольте блузки, носящая браслеты, цепочку с кулоном в виде сердца, и серьги-кольца. У меня же нет ни единого украшения, и даже не проколоты уши. А ещё у Джессики ухоженные и густые русые волосы длиной до середины спины. Я понимаю, почему Джессика всегда носит их распущенными. Она так часто перекидывает их через плечо, общаясь с парнями, что сразу понимаешь, как она гордится своими волосами. Однако она словно держит всех парней на расстоянии. В том числе и нашего одноклассника Майка, который ходит за ней по пятам с самого начала года. В каком-то смысле быть невидимкой не так уж и плохо. Тебя не берут в расчёт, но зато ты наблюдаешь и знаешь многое.
– Я видела. И его ауди, и самого парня на парковке, когда он вылез из машины, – отвечает Анжела, ещё одна моя одноклассница. Она одевается скромнее Джессики, однако это не мешает им быть подругами и всюду ходить вместе. – Но он не в моём вкусе, – говорит Анжела дальше. – А даже если бы и был, я люблю Бена, а Бен любит меня.
– Тем лучше для меня. Уж я своего не упущу.
Я заканчиваю копаться в своём ящике, оставляя внутри учебники, которые понадобятся лишь после ланча. Первым уроком мне предстоит химия, и я иду в то крыло, где находится соответствующий кабинет. Если то, что я слышала, является правдой, то, вероятно, и я тоже встречу новенького. Не сегодня, так в другой день недели. Хотя это странно. Пусть я и не представляю, как выглядит ауди, но, судя по тому, с каким тоном было произнесено название, это наверняка дорогой автомобиль. Зачем кому-то в принципе переезжать в серую и унылую глубинку из предположительно более-менее крупного города?
В кабинете я сажусь на своё обычное место за последней партой в ряду около окна. Было время, когда я сидела у прохода, но в средних классах мне случалось сталкиваться с тем, как меня обливали явно специально или хватали мои вещи, потом швыряя их обратно или на пол, и потому, едва мы стали достаточно взрослыми, чтобы самим выбирать, где сидеть, я тут же стала садиться у окна на всех предметах. Ко мне никто никогда не подсаживается. Даже если подруги или друзья ругаются друг с другом, они остаются сидеть вдвоём, как и прежде, разве что дуясь и временно переставая общаться. Но мне нравится быть одной. Целая парта в моём распоряжении. Да, проводить опыты или выполнять лабораторные в одиночку бывает трудно, но я справляюсь. Так и сегодня я переставляю пробирки подальше, потому что нынешний урок не подразумевает их использование, и просто жду звонка. Он наполняет помещение спустя несколько секунд, после чего учитель закрывает дверь. Но едва он отходит от неё, как она открывается вновь, и в класс заходит парень, которого я никогда раньше не видела. Вероятно, это и есть тот, о ком говорили Джессика и Анжела. Он действительно... красивый. Нет, не просто красивый, а очень красивый. Он выглядит, как модель с обложки журнала. Может быть, в будущем он и станет зарабатывать на жизнь именно так. Будь я на его месте, с его физическими данными я бы всерьёз задумалась на этим. Взъерошенные бронзовые волосы, высокий рост, худощавое телосложение, хотя парень не производит впечатления ни слабого, ни безвольного, выразительные черты лица, и, конечно, одежда, которая вроде является обычной, но выглядит дороже, чем те же джинсы и рубашки у других парней в школе. Он двигается невозмутимо, будто и не вошёл уже после звонка. И так же невозмутимо протягивает учителю лист бумаги, чтобы тот поставил там свою подпись. Мистер Смит берёт лист, ничего не говоря. Это так странно. Потому что любому другому мистер Смит высказал бы по поводу опоздания, и он делал это неоднократно. Сейчас же он просто кивает головой и говорит, что подпишет после занятия, а потом продолжает так, как я меньше всего ожидала:
– Садитесь. Единственное свободное место в конце первого ряда.
Я словно чувствую на себе все взгляды разом. Хотя на самом деле ко мне почти никто не оборачивается. Но этот парень смотрит на меня, не отводя взгляд. Всё время, пока идёт в моём направлении. Мне становится неуютно. Или даже... страшно. Причём страшно физически, а не только внутри, как бывало при нападках, когда я слышала неприятные и обидные слова. Я не знаю, как это объяснить. Просто от его взгляда и поведения с учителем веет чем-то нехорошим. Плохим. Мне становится всё более не по себе, и я опускаю глаза к своей тетради ещё до того, как парень садится на стул и начинает смотреть лишь прямо перед собой. И тут он довольно жёстко обращается к мистеру Смиту:
– Вы можете начинать урок.
– Что ж, спасибо, мистер Каллен.
Боковым зрением я различаю левую руку, водружаемую на стол. Она мускулистая ниже локтевого сгиба, к которому закатан рукав, и, скорее всего, является таковой и выше, просто трудно судить через ткань. Я, как могу, сосредотачиваюсь на учебном материале и в какой-то момент ловлю себя на мысли, что едва дышу. Будто мой... сосед что-то сделает мне, если дышать слишком громко или часто. Представляю, о чём могут быть его мысли. Что я убогая и странная. Хотя нет, скорее он просто ждёт, когда закончится и урок, и этот день, а если о чём-то и размышляет, то явно не про меня. Каллен... Каллен достал блокнот с ручкой, но я не уверена, пишет ли он. Я слишком боюсь повернуть голову даже немного. Мне не нужны проблемы. Наконец спустя словно вечность звенит звонок, и Каллен уходит из кабинета, позволяя мне вдохнуть полной грудью. Я думаю, что было бы здорово пересекаться с ним как можно меньше, в надежде, что он будет прогуливать, но мне везёт лишь в том, что в других классах больше мест для сидения, и тогда он сидит один где-нибудь в углу. Мы соседствуем лишь на химии, но не здороваясь и сохраняя молчание. Он начинает казаться мне ещё более нелюдимым, и я убеждаюсь в этом, когда на исходе его первой недели замечаю, как Джессика пытается перехватить его после биологии. Она задерживает его в дверях, и, протискиваясь, я задеваю руку Каллена правым плечом. Я зажмуриваюсь, боясь, что вот он схватит меня, неспособный стерпеть, но он вроде бы слишком увлечён общением, потому что ничего не делает, и, немного оглянувшись, я понимаю, что он так и продолжает стоять близ Джессики. Слава Богу, пронесло. Днём на улице уже достаточно тепло, чтобы есть не в кафетерии, и со своим гамбургером и яблоком из дома я иду к школьному стадиону. Мне нравится быть вдали ото всех под трибунами. Эти двадцать-двадцать пять минут чуть ли не лучшее время моего дня. Я успеваю и почитать, а не только поесть. Главу или две в зависимости от количества страниц в них. Дома трудно оказаться в стопроцентной тишине, но здесь всё иначе, а пение птиц только улучшает настроение. Я ем яблоко, сев на свою лёгкую куртку у задней стенки трибун. Оно зелёное и кисло-сладкое. Мой самый любимый сорт. Я люблю и красные, но в гораздо меньшей степени. Я доедаю фрукт наполовину, невольно проходясь языком по губам, чтобы собрать сок, за секунду до распознавания звука шагов. Спокойных, медленных, но не слишком. Но, едва Каллен появляется справа, заслоняя единственный проход, я уже не уверена, что то были шаги. Я просто нервничаю, и за исключением этой мысли в голове ничего не остаётся. Разве что потребность если и не убежать, то хотя бы встать. Чтобы выпрямиться в полный рост. Я не забочусь о том, как именно делаю это. А просто делаю, невольно разжимая ладонь, в которой находилось яблоко. Оно катится и катится, пока не натыкается на правую ногу Каллена и, ударившись о его ботинок, отскакивает прочь под металлическое основание трибуны. Но Каллен не смотрит вниз. Он смотрит на меня всё время. Своими острыми серыми глазами в обрамлении пушистых чёрных ресниц под не менее выделяющимися бровями. И не отрывает взгляда, даже пока извлекает пачку с зажигалкой из кармана джинсов, а потом и сигарету. И только из-за необходимости поджечь её кончик скользит глазами в сторону, нахмуренно зажав сигарету между тонкими губами. Я наблюдаю так, словно никогда не видела, как кто-то курит. Но я видела. Многие парни в школе курят. Но в их случае это не выглядит столь подходяще им и правильно, будто они делают что-то не так или не умеют курить по-взрослому. А Каллен действует именно так. Словно он уже является им. Взрослым по образу мыслей и впечатлению, производимому на окружающих. Он затягивается пару раз, прежде чем опустить правую руку с сигаретой между указательным и средним пальцами и посмотреть на меня... пытливо. Иначе и не скажешь. И зачем только это всё? Взгляд, присутствие, которое не выглядит случайным, и при этом тишина, прерывающаяся за долю секунды?
– Хочешь? – призывным голосом спрашивает он. Я не отвечаю и спустя минуту, и, возможно, потому он задумывается, а не нужно ли мне словно разрешение на то, чтобы говорить с ним. – Ты боишься меня? Не стоит, если так. Я не страшный. Так ты хочешь?
– Хочу чего?
– Сигарету.
– Нет, я... – будучи без понятия, куда ещё деться и как себя вести, я перебираю пальцы одной руки пальцами другой. – Я не курю.
– Да, по тебе это очевидно, – Каллен снова подносит сигарету ко рту, но сначала выдыхает весь дым от первой затяжки. Тот устремляется в стороны, пока не становится бесцветным, как и воздух вокруг, и тогда я вроде как начинаю ждать, когда парень всё повторит. Это не должно ощущаться так, но сигарета в его руке и он сам... завораживают меня. Я знаю, это вредная привычка, и родители не одобрили бы моего добровольного созерцания, но сейчас их тут нет. Им неоткуда будет узнать.
– Очевидно?
– Да. По лицу. Если бы курила, это отразилось бы на коже.
Каллен бросает сигарету на землю, не утруждаясь тем, чтобы наступить ботинком. Окурок тлеет ещё некоторое время, но к тому моменту Каллена уже и след простыл. Я и так не понимала, зачем он проследовал за мной, когда, казалось, был увлечён новым знакомством, а теперь и тем более ничего не понимаю. Собрав свои вещи, я возвращаюсь в школу, чтобы просто закончить день, а после последнего урока снимаю замок с велосипеда. У большинства учеников старше шестнадцати есть машины, те, кто чуть младше, как правило, добираются пешком или так же, как я, а самых младших привозят и забирают родители или другие родственники. Я иду с велосипедом по парковке мимо машин, когда впервые вижу Каллена у автомобиля, а значит, и сам автомобиль тоже замечаю в первый раз. Если точнее, то только двери и зону багажника, ну и номерной знак, над которым значится, наверное, символ автомобильной марки. Четыре блестящих кольца, переплетённых между собой поверх красивой синей краски. Я отхожу дальше, чтобы не дай Бог не задеть автомобиль собой или рюкзаком, тяжесть которого колотит меня по спине, и опускаю взгляд к ногам, проходя так ещё несколько метров. Уже потом я сажусь на велосипед и еду домой. Где-то по тротуарам, а там, где их нет, просто по обочине дороги. Обычный путь, в котором нет ничего нового. Так же, как и в моём сегодняшнем вечере или следующей за ним пятницей, проводимой мною на кухне. По субботам мы, как и всегда, едем в церковь, а накануне вот уже лет одиннадцать или даже двенадцать я помогаю маме с выпечкой печенья. Однажды я спросила, почему нельзя поехать просто так, на что отец посмотрел на меня так, что я сразу поняла, что просто нельзя. По крайней мере, по мнению моих близких. Но он всё равно добавил, что мы все гости и в церкви, и в целом на белом свете, и что лучшее достанется только тем, кто ведёт себя правильно, не делает никому плохо и больно, заботится об окружающих и проявляет щедрость. Я больше не спрашивала. Ни единого раза. И так же, как и во всему остальному, привыкла к трём часам в пути до церкви в Сиэтле и к болезненным ощущениям в шее, когда ты неоднократно склоняешь голову во время проповеди, чтобы перекреститься.
Мы не всегда ездим каждую неделю, если какие-то дела требуют присутствия родителей в городе, но в другой раз задерживаемся и после службы, возвращаясь домой в лучшем случае к вечеру. Порой они подолгу сидят на исповеди, и время от времени я тоже посещаю её по велению души, но в этот раз я не хочу, чтобы в моей голове копались. Быть может, это первый раз за все годы, когда мне претит мысль поделиться мыслями о том, в чём я согрешила или о чём не должна была думать, ведь думать о парнях и тем более конкретном парне в принципе несвойственно для меня. Но почему-то я думаю и не могу перестать. Каллен словно что-то сделал со мной, хотя он просто курил при мне, а потом ушёл, не сказав на прощание ни слова. Это всё так... незначительно, но ощущается иначе. Хоть я и понимаю, что он чужой, и единственный короткий разговор является ничем. Наверное, я просто должна быть благодарна, что мне ничего не сделали. Я была там одна. Под той трибуной. Меня бы никто не услышал, если бы Каллен собрался причинить мне боль. И никто его бы не остановил. Пусть мне и хотелось верить в его слова, что бояться нет нужды. Хотелось... Но почему?
– Ты сегодня молчалива, Белла.
– Простите, пастор, – тихо отвечаю я. Передо мной штора, а вокруг три стены, и в левой из них квадратное отверстие, прикрытое металлической сеткой. Слышно, но не видно. Штора выглядит пыльной, несмотря на то, что визуально она не грязная. Но от неё пахнет пылью, когда касаешься, чтобы войти в исповедальню. Не уверена, как давно ткань стирали хоть как-то. В детстве, будучи здесь, я не обращала внимания на это, просто рассказывая о своих днях и отвечая на вопросы, помогаю ли я родителям. Пастор хвалил меня, что помогало мне чувствовать себя хорошей дочерью. Но те вопросы изжили себя. Если он и спрашивает о чём-то в последние два-три года, то о моих мыслях или взглядах на что-то вроде того, как устроено общество, и о том, хочется ли мне что-то изменить в нём, или же меня всё устраивает. Честно сказать, я не думаю, что он способен спросить о нечто принципиально новом. Но я ошибаюсь.
– Тебе не за что извиняться. Ты наверняка просто задумалась. О школе или о людях в ней. Ты можешь рассказать, если что-то случилось, а ты не уверена, что дома тебя выслушают и поймут правильно.
Голос из-за стены звучит так же, как и все эти годы. Участливо и внимательно. Но, сидя тут с руками, лежащими на коленях, что опять-таки привычка, словно вросшая под кожу, я не ощущаю подлинной искренности. Вроде бы ничего не изменилось. В том плане, что это та же церковь, та же обстановка и атмосфера, и в нескольких сантиметрах от меня находится человек, который знал меня и ребёнком, но всё равно что-то не так. Это чувство сидит внутри. Я не знаю, откуда оно взялось, и что стало причиной, но я не могу открыться и открыть свои сокровенные мысли. Их нигде не поймут правильно. Ни дома, ни здесь. Мои ладони потеют из-за глубокого волнения, словно что-то из глубины сердца кричит молчать и забыть про слова, что всё сказанное на исповеди останется между тобой и пастором. Наверное, всё может и не быть всем-всем, если ты не взрослый. Взрослые либо утаивают разные вещи, либо откровенно лгут, даже если твердят о грехе, скрытом за этим.
– Мне не о чем вам рассказать. Всё как всегда. Ни у меня, ни с кем-либо ещё ничего не случилось. Вы позволите мне уйти?
– Да, Белла, ты вольна уйти.
Я встаю в тот же миг и покидаю небольшое помещение. Родители ожидают меня снаружи. Не снаружи церкви, как могло бы быть, а в нескольких шагах. Мама спрашивает, всё ли в порядке, и я лишь киваю, в ответ на что она касается меня, обхватывает рукой моё правое плечо и обнимает. Её рука ощущается так сильно даже через ткань, что мне становится неуютно, но я ничем не выдаю своих истинных эмоций. Мы так и доходим до автомобиля, и только перед ним мама отпускает меня, прежде чем сесть на переднее пассажирское сидение. Я располагаюсь сзади и достаю книгу. Да, дорога предстоит длинная, и не всегда она ровная без всяких дефектов в дорожном полотне, но я не могу не читать. Я не могу провести всё это время, просто глядя в окно и наблюдая за проплывающим извне пейзажем. Лучше читать классику, а у нас дома есть только она, иногда теряя строку из-за кочки, чем устать от созерцания видов, которые не меняются годами.
На следующий день я снова иду в школу и вновь встречаюсь с Калленом на химии. Её уроки в расписании значатся дважды в неделю. Это третий раз, когда мы сидим за одной партой. И первый раз, когда нам предстоит провести опыт в паре. Ничего особо сложного, просто смешивать содержимое пробирок между собой в соответствии с планом, который раздаёт мистер Смит, и записывать результаты наблюдений за реакциями на том же листе. Я вполне думаю, что справлюсь сама. Ведь делала так раньше десятки раз. И приступаю к индивидуальной работе и сегодня, потому что Каллен просто сидит рядом, даже не смотря в мою сторону, и я не хочу привлекать его внимание и говорить что-то о том, что мне как бы нужна помощь. Потому что она мне не нужна, а даже если бы было иначе, по-моему, его бы это совсем не взволновало. Он где-то в своём мире, так что, потянувшись к первой пробирке, я совсем не ожидаю соприкоснуться пальцами с пальцами Каллена, который тоже прикасается к ней как раз в это мгновение. Я одёргиваю ладонь, боясь поднять взгляд.
– Извини, я не думала, что ты... Я думала делать всё одна, как и раньше. Я, правда, готова. Ты не обязан.
– По-моему, обязан, – кажущимся непререкаемым тоном заявляет Каллен. – Я начну, а ты записывай, что увидишь.
Я всё-таки поднимаю глаза и сталкиваюсь с тем, что Каллен смотрит на меня. Вроде бы мягко и по-доброму. Хотя его глаза словно налились кровью, и сам он выглядит утомлённым, будто плохо спал или поздно лёг, или всё это вместе. Но вот он отводит взор и поочерёдно наполняет пробирки растворами лакмуса, метилоранжа и фенолфталеина примерно на три четверти. После стеклянной трубочкой Каллен набирает раствор гидроксида натрия, и при его контакте с содержимым каждой из трёх пробирок мы наблюдаем изменение окраски индикаторов. Я записываю всё аккуратно и неторопливо, чтобы нигде не ошибиться, прежде чем мы проводим ещё несколько опытов. Я так и конспектирую итоги, мысленно думая о красоте самых первых химических реакций и о том, как вещества смешивались между собой в завихрениях красок, когда прядь волос, выскользнувших из моей косы, падает мне на лицо. Это так некстати, ведь я пишу и боюсь сбиться, и на выдохе пытаюсь выдохнуть так, чтобы она хотя бы стала дальше от глаз. Но всё тщетно. И тут вдруг Каллен прикасается к ней и отводит её мне за ухо, задев непосредственно ушную раковину кончиками своих пальцев. Я замираю. Застываю на стуле без единого движения, хоть рука и продолжает двигаться по бумаге, дописывая слово. Пальцы исчезают быстро, словно их и не было, но с моим сердцем творится что-то немыслимое. Оно так сильно бьётся. Запредельно сильно для меня. Со мной происходит нечто, чего я никогда не испытывала и даже не в состоянии назвать конкретным словом. Но я не могу сказать, что мне было неприятно от того, как он прикоснулся.
– Что... что дальше?
– Ничего. Мы закончили. Ты дописала?
– Д-да.