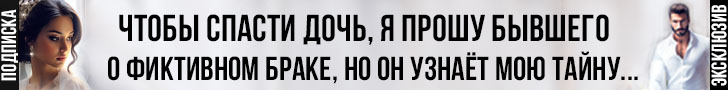Шёпот листьев в больничном саду
- III -
Когда я услышала его в третий раз, я приняла его голос за галлюцинацию.
Той ночью я лежала с температурой тридцать восемь. Отёкшие руки и ноги скручивает невидимыми верёвками, в висках колоколом стучит кровь, с каждым ударом ввинчивая в мозг тонкую иголочку боли.
Первый раз я плакала, сейчас – уже привыкла. Это было нормальным явлением для восстановления после высокодозки: того периода, когда твой организм почти полностью убит, и остаётся только ждать момента, когда костный мозг начнёт снова вырабатывать кроветворные клетки. И молиться, чтобы среди этих клеток не нашли лейкозных бластов.
Я смотрела в потолок и думала о том, что это последний раз.
Скоро, уже совсем скоро я буду снова кормить белок в больничном саду. Листья к тому времени, наверное, уже опадут, но ветви клёнов помашут мне в знак приветствия.
Скоро, уже совсем скоро кончится пустыня, и путь мой продолжится не по выжженной, растрескавшейся земле, а по берегу реки, поросшему зелёной травой. Как и раньше. Нет, ещё лучше.
Скоро, уже совсем скоро я только посмеюсь, глядя в равнодушное, холодное небо, которое когда-то так меня манило.
- Зачем ты так цепляешься за жизнь? – голос почти слился с гудением лампы дневного света над моей кроватью.
Я вздрогнула.
Я с трудом повернула голову.
В больничной палате – мире бледной зелени и стерильной белизны, где даже окно заклеили плёнкой и занавесили жалюзи – он казался кровоточащей раной. Инородным элементом. Красно-чёрные одежды отливали шёлковым блеском, тёмные глаза внимательно следили за мной.
- Кто ты? – прошептала я.
- Твоё упрямство меня восхищает, - он подошёл ближе; движения его были мягки и вкрадчивы. – Многие молили о смерти, когда жизнь била их куда меньше.
Мне это кажется, думала я, глядя на его улыбку, бордовую, как розы. Меня предупреждали, что могут быть галлюцинации. Этого не может быть.
Он остановился у изголовья моей кровати, глядя на меня сверху вниз.
- А вот твоя соседка особо не упорствовала. Видимо, её чаша терпения была куда меньше, - добавил он. – Но ты… - он склонил голову набок, - а ведь дальше будет только хуже. Поверь.
Я моргнула.
Я не знала, кто он. Но мне не нравилось, что он находится в моей палате.
- Уходи, - хрипло проговорила я.
- Уйду. Твоё время ещё не пришло, - он протянул руку – с длинными тонкими пальцами, с длинными аккуратными ногтями. Я вздрогнула, ожидая прикосновения – но он лишь провёл ладонью вдоль моей щеки, не касаясь. – Может, всё-таки скажешь: что тебя держит? После предательства жениха, после предательства подруг, после всей этой боли?
Я молчала.
- Я мог бы прекратить всё это, - его голос обволакивал слух тёплой сонной пеленой. – Больше не будет боли. Никакой. Никогда. Только покой, - его рука потянулась к моим волосам, будто желая поправить выбившуюся прядку – и вновь застыла, не смея коснуться. – Ты сама об этом думаешь. Просто боишься пожелать.
Я сглотнула.
- Уходи, - повторила я, и в этот раз голос мой был твёрдым.
Он не ответил: лишь улыбнулся. Потом отвернулся и прошёл куда-то к окну, и длинные рукава его одежд летели за ним крыльями алой бабочки.
Я не видела сам миг его исчезновения – но в следующий миг его в палате уже не было.
В тот день, когда я услышала его в четвёртый раз, родители ко мне не пришли.
Зато пришёл кое-кто другой.
- Привет, Сашка! – тряхнув рыжими хвостиками, Катя поскреблась в стекло. – Как ты тут?
- Живу помаленьку, - я захлопнула крышку ультрабука и убавила звук телевизора, по которому показывали новости. Кое-как улыбнулась: грибок во рту мешал. – Ты как?
- Гипс сняли, - она гордо продемонстрировала мне свободную руку. – И рёбра вроде прошли совсем. Выписывают завтра.
- Здорово! Как ощущения?
- Хорошо, - она легко согнула и разогнула ладонь. – Наверное, скоро даже в музыкалку даже снова могу ходить.
- Здорово, - я криво улыбнулась, покосившись на собственные руки: с венами, покрасневшими и вздувшимися от тромбофлебита, и огромным синяком там, где раньше стоят катетер – его пришлось переставлять в ключицу.
- Хотя я бы с тобой местами поменялась. Мне-то это не очень нравится. Пианино то есть, - простодушно сказала Катя. Потом уставилась куда-то в пол, и губы её задрожали. – Но мама хотела, чтобы я её закончила… значит, нужно закончить.
- Верно, - я кивнула. – Тебе теперь за двоих нужно жить. За себя и за маму. Отец же будет вам с бабушкой помогать?
- Он и так помогает. Предлагал даже к себе забрать, но я не хочу. Нужна мне мачеха больно, - девочка скривилась. – И его никогда не прощу за то, что нас бросил.
- Так бывает, Катюш, - я тяжело вздохнула. – Твои хоть полюбовно разошлись. А иные жён бросают, когда они болеют… вот так же, как я.
- Ну, такие вообще не люди, а сволочи, - резюмировала Катя. Помолчала. – Хотя я вот думаю иногда: если бы папа от нас не ушёл, наверняка бы он нас тогда на дачу повёз. Он ведь дольше на машине ездил, папа. Сам бы маму в ливень такой за руль не пустил, - она неопределённо повела рукой. – Может, он бы и справился с управлением…
- Зачем гадать, что могло бы быть, - я отвела глаза, взглянув на телевизионный экран. – Так только тяжелее…
Я осеклась.
Новости успели закончиться, сменившись записью какого-то концерта. На огромной сцене со светодиодным экраном пели три девушки; музыкальное сопровождение обеспечивали электрогитары, ударные, фортепиано, скрипки, виолончели и флейты. Солистки – две блондинки и одна брюнетка, молодые и хорошенькие, в скромных белых платьях стиля ампир. Правда, чёрные кружевные митенки вносили некую дерзкую нотку в их облик.