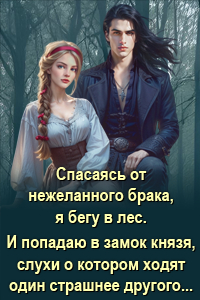Спор птиц
Спор птиц
Сидели два писателя в уютной гостиной. Гостиной, наполненной дорогой, но не сибаритской темной деревянной мебелью, смягченной коричневым диваном и двумя пухлыми креслами, затененной каштановыми портьерами от сумрака зимнего дня-ночи, не самой роскошной гостиной, но весьма благородной. Сидели и пили чай. Чашки, голубые широкие фарфоровые чашки с ароматным напитком, от которого поднимался нестройный вьющийся, словно прозрачные крылья стрекоз, дым, подносила жена одного из писателей, суетилась, улетая на кухню и возвращаясь оттуда с новой порцией кипятка. Чая выпили много, очень много, ибо шел между ними спор ни на жизнь, а на смерть. Только жена успевала налить немного чая, как широкую, распростертую дружелюбно и пугливо навстречу рту чашку, опрокидывали, дабы смягчить боль в пересыхавшем горле.
— Понимаешь, искусство должно искать все более новые, оригинальные пути для выражения, — отстаивал свои постулаты писатель-авангардист по имени Валерий, пока еще спокойно, насколько позволяла нервная натура его, отраженная дрожью на кончиках извивающихся пальцев и чрезмерной распахнотостью расширенных серых глаз. Уверенный в своей правоте, он только начинал придумывать аргументы, ощущая, как друг готовится к спору. Тогда еще не допили первый чайник.
А спор всегда начинал неугомонный Валерий, он всегда что-то начинал, куда-то мчался по горизонтали своей жизни, где-то находил, где-то терял, не мог остановиться, иногда не замечал, что и кого ломает на пути. Только друг-писатель всегда оставался неизменным и терпеливо переживал все выходки и многочисленные колкости Валерия.
— Да, должно, но какой ценой? Ценой невинно убиенного смысла? В конце концов, почему оно тогда ничего нового не создает в последние лет десять? Вот позавчера были мы с женой в театре, как раз авангардный спектакль посмотрели. Знаешь, лучше бы не смотрели это «новое прочтение старых произведений», — вздохнул друг — писатель-традиционалист по имени Сергей, хозяин пристойного своей скромностью жилища. Жена, статное прекрасное создание, словно сошедшее со страниц классических книг, чувствовала, что не стоит ей вмешиваться в намечавшийся спор, так как муж продолжал, щуря пространно свои темно-зеленые глаза: — Вот понимаешь, на сцене действия много, а театра нет. Сначала казалось смешным, но потом решили они поставить отрывок из «А зори здесь тихие». Интересно ведь вышло… сначала. А потом вдруг раз — и убили всех пятерых одной хлопушкой за сценой, и непонятно ради чего.
— Это был такой сюжетный ход, кажется, я знаю, о каком спектакле ты говоришь, мне кажется, это свежее прочтение! — заявил яро приятель, хоть в голосе его проскользнули нотки сомнения.
За окном начали падать крупные хлопья снега, кружились, точно белые хризантемы, засыхавшие в хрустальной вазе на журнальном столике в гостиной, отдавая последнюю свою красоту. Спасаясь от бурана, на подоконник прилетел запорошенный мокрый голубь, вертел задумчиво головой. Сергей поглядел на пришельца и рассмотрел, что пернатый гость бел, словно снег, что его покрывал, и наделен необыкновенными голубыми глазами, нетипично кроткими и осмысленными для голубей. Писатель невольно залюбовался птицей, уже желая впустить его, отогреть, скорее всего, домашнее, отбившееся от голубятни, чудо, но где-то, пронзая отчетливостью машинный гул, надсадно закаркала ворона, монотонно и мрачно, точно набат, охрипшая, озлобленно, и испуганный голубь улетел… Пропал бесследно. Только карканье осталось звуком невидимой дисгармонии. Да еще осталась память о необычном пришельце. Сергей вздохнул и продолжал бесконечный спор, не понимая, отчего Валерий не умеет просто говорить:
— Да, но знаешь в чем беда, главная беда, что есть смерть, но нет подвига. Это, во-первых, а во-вторых, ничего не создано нового: тексты взяли писателей двадцатого века, притом взяли какие-то совершенно случайные эпизоды, исказили их словно в зеркале троллей, и передали так публике в обертке новизны. Это ли есть современное искусство? — повел продольно вытянутой ладонью собеседник, поправляя левой рукой клетчатый кофейного оттенка свитер, устраиваясь в новой позе нога на ногу в кресле. Жена, склонив слегка голову, с тайной улыбкой любовалась им, наблюдая с дивана, молчала, но ей и не стоило говорить, они давно понимали друг друга и без слов, десять лет жизни многое дают людям, делая слова бессмысленными для высказывания, слова начинают передаваться через души.
Тем временем авангардист, служа ярким пятном в слишком пастельном интерьере со своими желтыми брюками и синей рубашкой, поверх которой, маячил розово-оранжевый шейный платок, заерзал на своем кресле:
— Может, и не это! Но мы обязаны искать новые пути. Ты говоришь, в том спектакле на сцену в конце начали выбегать Чебурашка, Микки Макус и Симпсоны? Ну, видимо, это символ был, символ того, что с нашей историей произошло! Вот так ее показали, начали с Ленина и Феликса-кентавра, потом «Зори», потом про 70-е. Это же иллюстрация всего, что было. Разве не понимаешь, что сейчас надо искать новые пути выражения эмоций? Новые пути в искусстве?
— Надо, но только ты мне ответь, какой смысл в том, чтобы накидывать на сцену множество вещей, выдавая их за авторский замысел? Какой был в этом всем смысл? Есть ли смысл в современном искусстве? — подался навстречу собеседнику писатель с иной точкой зрения.
— Зачем искать смысл в постмодерне? У каждого могут быть свои критерии смысла, свои критерии добра и зла. Каждый может придумывать свой собственный язык и наслаждаться им, и писать на нем. Откажись ты уже от своего устаревшего видения мира, — взывал авангардист, лохматя щипанную за дорогую цену голову, хотя позолоченные короткие пряди создавали впечатление, будто он только что вылупился из яйца.
— Каждый? Вот только почему в массах приживается только самое низкопробное, самое бессмысленное. Почему в постмодернистском искусстве никто не может создать новое искупление, привести читателя к новому просветлению, которое бы помогло ему пройти сквозь этот мир, через всю жизнь, и остаться при этом человеком? Почему-то, что раньше считалось площадным юмором и фарсом, теперь щеголяет эполетами искусства? — произнес долгую тираду традиционалист, выпивая затем залпом чай. Спор длился вечно. Каждый раз, когда находилось время, а время при свободном графике авангардиста находилось, писатели вели свой вечный спор за бесконечными чашками чая, становясь год от года заклятыми друзьями.
Отредактировано: 05.10.2020