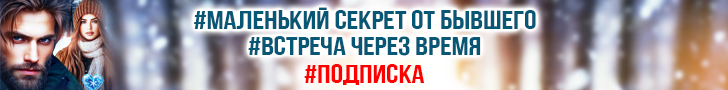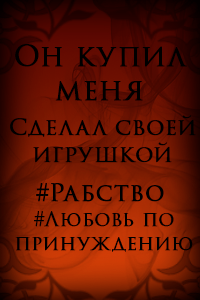Талая вода
Талая вода
Снег начал падать ещё в октябре и все думали, что это ненадолго, но он шёл и шёл, не переставая, до конца марта, и сугробы намело огромные. Дачи будто растаяли под его белой пеленой. Верхушки самых высоких заборов были едва видны, так что можно было запросто перешагнуть через них с улицы и заглянуть в любое окно, но дома пустовали и ничьих следов, кроме разве что заячьих, не было видно, да и те быстро заносило позёмкой. Леса, поля, болота - всё-всё скрылось из вида и казалось, весны уже не будет. Но сколь зима не лютовала, сражаясь упорно и яростно, наспех зализывая по ночам коркой льда чудовищные ожоги, однажды, как это всегда бывает, вся её армия внезапно дезертировала, и всё начало таять неудержимо и радостно, и воздух задрожал от влаги и птичьего гомона.
Большие и малые озёра слились с болотами, затопив лес и прибрежные луга, и стеклянная пелена свежей талой воды стёрла все грани. Облака плыли под днищем лодки вперемешку с мелким мусором, и солнце можно было зачерпнуть кружкой как дольку лимона и напиться с ним чаю. Лес был прозрачен и дышал той волшебной оживающей тишиной, полной таинства новой жизни и шелеста раскрывающихся почек.
Все отражения были строги и прямы, словно ты скользил по огромному хрустальному дворцу, и я поминутно опускал вёсла, боясь вспугнуть это особое, гулкое брожение весны, отдающееся в самом сердце. Тот, второй, тоже замирал и улыбался чему-то, словно прислушиваясь к струящейся вокруг воде, а потом снова брался за вёсла и грёб медленно и размеренно.
Воздух был свеж и бархатист и ещё пах немного снегом и холодом, но запах земли уже витал в нём, будоража кровь и заставляя дышать полной грудью. Но странное дело, во всём этом очевидном и победоносном торжестве возрождения, полном искрящегося солнца и пения птиц, мне постоянно угадывался другой лик – лик смерти, но не отталкивающий и отвратительный, как его часто изображают люди ни разу его не видевшие, а другой, задумчивый и умиротворённый, похожий на усталое лицо матери, склонившейся над спящим ребёнком.
Мне всегда казалось, что всё невероятно прекрасное всегда несёт её след (так уж устроен этот мир), и эта тонкая печаль, похожая на неприметное увядание лепестка едва распустившейся розы, делает прекрасное ещё более притягательным и законченным. Смерть была такой же частью жизни, как мои пальцы были частью моей руки, а она, частью всего моего тела. Это было столь очевидно и просто, что я невольно улыбнулся.
Тот, другой, словно читая мои мысли, тоже растянул рот в улыбке, и его лицо задрожало в воде. Мы оба плавно скользили в перевёрнутом мире, и чёрно-белая колоннада берёз в хрустальном паркете воды кружила мне голову. Я плыл, не зная где верх, а где низ, и благоговейный страх наполнял моё сердце с каждым взмахом вёсел, несущих меня, словно птицу, по бледному небу. Любой звук тонул во влажной тишине, и эхо было необычным и пугающим, словно и вправду кто-то невидимый повторял за тобой все звуки, как тот, второй, повторял все мои движения, стараясь не выдать себя неосторожным жестом. Я плыл всё дальше, пользуясь апрельским половодьем как мостом, позволяющим мне достигнуть мест, недоступных после. Всего несколько дней в году я мог наслаждаться такой возможностью, и этот год был особенным. Я чувствовал это. Такой высокой воды не было ровно 20 лет, и я мог не спешить, точно зная, что достигну места. Того самого места, где я когда-то давно познал тайну рождения смерти.
Когда солнце стало садиться, лес сделался ярко розовым, словно у художника не было других цветов и он, не колеблясь, брал что придётся, спеша не упустить ускользающее мгновенье. Вода и небо потемнели и стали дымчато-красными, переливаясь и клубясь там, где багровая капля солнца касалась земли. Мы оба не шевелились, подчиняясь зловещей красоте угасающего заката и поверхность талой воды, была ноздреватой и подвижной, как растекающаяся свежая кровь. Розовая муть леса корчилась в оттенках, темнея и охладевая, и вода и небо тоже темнели, пока не сделались черными и окончательно не слились в густой клубок тьмы. Я причалил к острову и в этом первозданном мраке, крохотный огонёк моего костра горел как одна из звёзд, плавающих в океане безраздельной пустоты. Тот, второй, сейчас не был виден, но я знал, что он рядом, и терпеливо ждёт меня, чтобы продолжить путь.
Я уснул спокойно, как всегда и сны не тревожили меня до самого раннего рассвета, и проснулся легко точно птица и сразу же встал. Туман лежал вровень с берегом, и воды не была видна. Казалось, что ты стоишь на вершине, и под твоими ногами лежат облака, а за ними, пропасть и стоило только шагнуть в эту белую зыбь и ты упадёшь, и будешь парить, парить, парить, пока камни внизу не напьются твой пузырящейся крови. Я опустил руки в туман и умылся холодной водой, потом ещё и ещё, чувствуя, как лицо ломит от холода. Тот, второй, невидимый сейчас, снова улыбался и я ощупал своё лицо, что бы понять, улыбаюсь ли я.
Я напился чаю и продолжил свой путь в белой дымке, ориентируясь по отблеску молодой зари. В одном месте я заметил большую щуку, заплывшую в лес и заплутавшую там. Она почти лежала брюхом на притопленном мхе и слабо шевелила жабрами. Её глаза были белыми и неподвижными, как опущенный в кипяток яичный белок. Я протянул к ней руку и коснулся пальцами её упругой спины, и она метнулась торпедой в сторону и снова застыла, ударившись о густые ветви ольхи. Я понял - она умирала. Я проплыл мимо, в туман, поражённый этой обыденной смертью в торжественной тишине раннего утра, погружённый в одиночество, посреди затопленного леса и тот, второй, сидел сгорбившись, кутаясь в воротник отсыревшей куртки и молчал. Я сам чувствовал себя рыбой блуждающей по разлившейся воде без маяка и цели, и мне было жаль щуку, и жаль себя. Я закрыл глаза и, опустив ладони в воду, представил себя слепо блуждающим по затопленному лесу полному душистой талой воды и заплакал. Прохладный туман касался моего лица тысячью детских ладошек, и я парил сквозь лес, кружась и наталкиваясь на кусты и деревья, несомый не то ветром, не то движением вод. А потом, тот, другой, остановил лодку и внимательно смотрел, как в воде медленно набухает ядерный взрыв поднимающегося солнца, и его лицо было непроницаемо.
Когда туман рассеялся, лес был другим. Зелёный пух несчётного числа наклюнувшихся почек окрасил его пастельной салатовой дымкой. Даль была подобна тончайшему шёлку, и запах стоял необычайный, нежный и чувственный, чуть вяжущий, словно ты надкусил холодную ягоду черноплодной рябины в застывшем осеннем саду. Голубизна неба сквозила сквозь изумрудную шаль леса, и чувство парения усиливалось с каждым лёгким дуновением ветерка, раскачивающим ветви тонких берёз. Солнце ярко сверкало в воде и слепило того, второго. Он поднимал руку к глазам и щурился и я тоже щурился и закрывал глаза от света. Нам предстояло пройти ещё немного, и я грёб размеренно и неторопливо, стараясь делать каждый гребок максимально бесшумным, любуясь золотом капель стекающих с полости весла в хрупкий стеклянный сосуд апрельского неба.
Около полудня я достиг края болот. Безликие стены сухой осоки поплыли мне навстречу. Редкие острова с притулившимися на них соснами появлялись и исчезали слева и справа от нас. Тот, второй, не смотрел на них. Он был напряжён как гончая и смотрел только вперёд. Его глаза цвета голубой воды сделались серыми, и я избегал встречаться с ним взглядом. Мы были близко.
Озеро было неотличимо от глади затопленных болот, но чайки безошибочно кружились над ним, и вода здесь пахла иначе. Дно исчезло, и теперь облака плыли по чёрному зеркалу воды ни с чем не сталкиваясь, свободные и легкие, как тогда, в тот незабываемый год.
Помню, брат сидел на носу в тот день, подложив под себя рюкзак. Его короткие русые волосы чуть ерошились на ветру. Чайки тогда тоже кружились над озером. Я наблюдал за их отражениями в воде и представлял, каково это, весь день носиться над этой стылой, серой водой, пытаясь уловить скользкую тень проплывающей рыбы.
Отец шел впереди, поминутно оглядываясь на нас и улыбаясь. Лодки были связаны, и когда я уставал грести, то просто опускал вёсла и отец тащил нас на буксире. Брат не грёб - не хватало сил. Он просто сидел на носу как штурман, внимательно глядя вперёд. Он был очень похож на отца в тот день – тот же затылок, те же прямые плечи, тот же задорный взгляд. На шее у него болтался огромный бинокль, который он поминутно прикладывал к глазам. Иногда брат обменивался с отцом улыбками, понятными только им двоим, и тогда их сходство было пугающим.
Я не ревновал, нет. Мне просто было немного скучно. Я не желал смотреть вдаль. Я смотрел в воду и тот, другой, наблюдал за нами со спокойной усмешкой в уголках мальчишеского рта. В то утро я впервые увидел его, того, второго, о котором никто не знал и с радостным изумлением следил за ним. Отец странно смотрел на меня. Я видел это. Чувствовал. Наверное, он тоже догадывался о существовании того, другого. Догадывался, но не мог его увидеть. А я мог.
У отца в лодке лежало ружьё и, время от времени, он поднимал его к плечу, целясь в пролетающих уток, но они каждый раз были слишком далеко и он не стрелял. Отложив двустволку, он снова брался за вёсла и грёб, сильно и мерно, и вода пенилась под этим напором и лодки набирали скорость и тот, другой, тоже помогал.
Дальний высокий берег раздавшегося озера был хорошо виден в полукилометре от них. Желтая полоса песка и могучие, красно-зелёные сосны отражались в воде, и от этого берег казался вдвое выше, чем был на самом деле. Тот, другой, смотрел теперь в воду неотрывно, словно видел что-то под её ледяной гладью. Набегавшая порой рябь колыхала лодки и огромное зеркало меркло. Тот, другой, морщился, но не отводил взгляда. Вода была прозрачна и чиста, но дно было черным и от того всё озеро казалось мрачным и напоминало волны какого-то северного моря. А потом я увидел, как снова отец встал и поднял ружьё. И тот, другой, на второй лодке, тоже вдруг встал и наклонился к моему брату, не отводя своего взора от воды. Воздух задрожал от выстрела, а следом, чуть погодя, от второго. Отражение отца качалось в волнах, и его улыбка была смазана. Он что-то кричал, не оборачиваясь, указывая куда-то вперёд, но я не слушал. Что-то билось о резиновое дно лодки у моих ног. Что-то округлое и гладкое. Билось, а потом исчезло. Лужица воды снова скатилась на своё место и затихла. Но я не смотрел туда. Я был рад за отца. Я был рад, что он попал, и две утки качались на волнах поодаль и свежий воздух остро пах порохом. Тот, второй, тоже улыбался. Он смотрел в беспокойную гладь воды и улыбался, глядя на отражение двух качающихся на воде лодок и двух людей на них...
Я опустил вёсла. Это случилось здесь. Я знал это. Тот, второй, пристально смотрел в воду и я понял, что прав. Тот не мог ошибаться. Отец, кажется, так и не простил меня, но я не был виноват. Не был. Тот, другой, сделал это. Я видел это по его серым глазам, в упор смотрящим на меня сейчас. Впервые в жизни, мне вдруг стало страшно при виде дрожащей вокруг воды. Я протянул руку к тому, другому, но он отдёрнул её и продолжал смотреть на меня. Облака проплывали под ним лёгкие и бесшумные, а я всё глядел и глядел, прямо в эти серые, бездонные, пронизывающие глаза, и тот, второй, не выдержал моего взгляда и отвернулся.
А затем, я увидел как в тени лодки, что-то медленно поднимается из глубины навстречу ко мне. Что-то продолговатое и темное. И тот, другой, я видел это краем глаза, снова заулыбался. Он встал на колени, низко склонился к воде и по плечи опустил в неё руки, словно хотел обнять кого-то. Вода почти касалась моего лица и что-то шептала. Глаза у того, другого, сделались почти чёрными и в самый последний миг, я отпрянул в ужасе, и забарахтался, силясь встать, но уже не смог и скрылся в прозрачной воде без всплеска, легко и гладко точно дельфин, и чайки заносились над пустой лодкой, крича беспокойно и сипло, скользя меж стылых рыб и облаков, в прохладной глубине лучезарного апрельского неба, чище которого не сыскать на всём белом свете.
Отредактировано: 17.02.2024