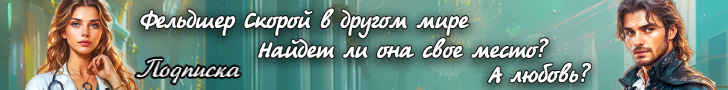Там, где остались мы
Пролог
Она чувствует, как кто-то чужой облепляет прикосновениями ее тело. Поднимает, тащит, цепляется в лодыжки до хрипа, что не срывается с ее губ.
Ей бесконечно кажется, что тело затапливает чернотой, оно поглощает всю тьму небес, и от того на небе сейчас наверняка только звезды. Люди ведь тоже из них сделаны. Из звездной пыли и несбывшихся надежд. Пахнут чудесами и болью, что прячут в глазах.
Такие несовершенные существа. Такие прекрасные.
Но нести в себе ночь сегодня невыносимо. Она точно давит на кости, распирает изнутри, сжимает легкие. Тьма беспредельна, ее невозможно подчинить. И она знает, что хоть и украла ее у неба, чернота все равно прорвется наружу. Закапает из ее голубых глаз, польется на бледную кожу дегтяревыми едкими пятнами. Прорвется, разорвет ее изнутри.
И тогда все закончиться. Какое странное чувство…И с чего она решила, что смогла похитить тьму, боль и страх этого мира? Наверное, что-то подмешали…
Но думать об этом приятнее. В ватной голове это умещается лучше, чем то, что ее тащат чужие руки, волокут, как безвольную куклу, царапают кожу, дергают за волосы. И что внутри все болит не из-за того, что она сосуд вселенской боли и жертвенница, а просто от того, что на ней нет живого места.
В груди дыра. Но до нее происходит выстрел. Он расщепляет пространство, сжимается в сгустившемся воздухе, в застывшем мгновении. Пока она смотрит, часто моргая, на стрелка и не понимает еще, что происходит. Ее оглушает, растаскивает до порванных органов, до инородного, свинцового в теле. Давящего, распирающего.
Она ее ощущает, дыру эту, как пробоину, которую хочется закрыть непослушными, слабо подрагивающими пальцами. Но тело не слушается. Оно тяжелое, неповоротливое. Бесполезное. До немой истерики.
Ее запихивают на сидение. Оно пахнет кожей и дорогим парфюмом, что забивается в нос до дурноты. Рев мотора оглушает, проноситься слабым импульсом жизни по нервам, бьет набатом в воспаленное сознание.
В первую секунду — хочется кричать — «Выпустите меня».
Но потом внутренний голос стихает, тяжелые веки так и не разлепляются, обкусанные губы едва шевелятся в невнятном бормотании. Таком слабом, несвязном, напоминающим бред при лихорадки. Она сама не может его расшифровать.
Точно сознание и ее тело больше не в контакте. Провода разорваны, теперь они сами по себе, барахтаются на заднем сидении, как могут, пока под колесами шуршит асфальт. Тело бросает из стороны в сторону, зажатое между сидениями, а из горла все рвется сип вместе с клочками дыхания. Но сознание цепляется за образы, вспыхивающие под темнотой прикрытых век.
Сознание вырывается и парит. Ввысь. В небо. Как птица. В убежище облаков.
В своем разуме она смеется. Каждый ее полет — свободное падение в мгновения жизни.
Там, в прошлом, она сидит в кресле в тату салоне. Пахнет краской, освежителем воздуха и солнечной духотой. Лето. Ее короткие волосы путаются, липнут к щеке, падают непослушными прядями на лоб. Всем нравятся девушки с длинными волосами, но ее маленький бунтарь всегда выбирает нечто мальчишеское, задорное.
Марк держит ее за руку, нервно сглатывает. Бледный, как смерть. Высокий, светленький в забавных очках. Хорошенький с этими веснушками на щеках. Она расцеловывает каждую по сотню раз, мечтая, чтобы Марк принадлежал только ей. Говорит: «Ты помечен солнцем, оно тебя любит, но никогда, слышишь, оно не будет любить тебя так же сильно, как я».
Марк в воспоминании трясет ее пальцы, массирует фаланги. Дышит глубоко, судорожно втягивает носом воздух. И смотрит на нее так, будто она должна повторить. Давай. Дыши. Но она только смеется, по-ребячьи улыбаясь:
— Слушай, я не рожаю. Не надо со мной тужиться.
— Но тебе ведь будет больно…
— Пустяки, ты ведь рядом, значит я даже ничего не почувствую. Как комарик укусит, ладно?
На самом деле он такой нервный не только из-за иголки, на которую испуганно таращится. Просто в лицо ему то и дело тычутся розовые шарики, которые держит сестренка с триумфальной радостью, горящей в ее больших, как у олененка, глазах. Она буквально светится вся, заглядывает за руку Марка, заговорщицки улыбается.
Один из ее младших братьев тоже тут, внимательно разглядывает эскизы татуировок, ворчит на шум и старается казаться безучастным к ее празднику. Но потом, нервно откашливаясь и забавно краснея, с придыханием, смотря ей в глаза, тараторит:
— Я тут песню сочинил, типо, в подарок. Послушаешь?
Это одно из ее лучших воспоминаний прошлого лета. Шумное, теплое, яркое, как взрыв красок. Кусочек простой и понятной жизни.
Они все дарят ей то, что она хочет больше всего в свой День Рождение — свою любовь, внимание, радость. И татуировку.
Ей давно хочется освободить себя. От оков. От земного, давящего, телесного.
Воспарить.
— Птицу?
— Да, под ключицей. Я хочу летать.
И ей в тот летний день набивают птичку. Маленькая ласточка, контуром, без краски. Это силуэт ее души. И она действительно позволяет себе взмыть вверх. Отпустить себя.
И каждый раз теперь привязывает сознание к этой птичке, чтобы оторвать себя от тела и свободно взмыть вверх. Когда не может находиться внутри него. Как в темнице. Когда тело трогают чужие руки, когда оно перестает ей принадлежать.
#8511 в Молодежная проза
#16447 в Проза
#7720 в Современная проза
неоднозначные герои, плохой парень и хорошая девочка, отненавистидолюбви
Отредактировано: 20.11.2024