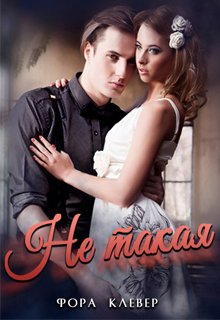Тень
Тень
Иногда мне кажется, что броситься в Сену – не самая моя плохая идея. Во всяком случае, ее холод и темнота – это ненадолго, и только один раз.
А в пытке я живу каждый день.
Мне пытка видеть тебя, и точно понимать, что ты меня не замечаешь. Нет, я знаю, я всё знаю: я лишь тень! Я переписываю для тебя речи, которые ты торопливо записываешь на листах бумаги, зачеркивая, торопясь, когда приходит к тебе очередная блестящая мысль или красивый оборот.
Ты даже не знаешь сам, как сложно с тобой было начинать работать! Это сегодня, три месяца спустя от теневого моего положения и плена чувств, я могу, не особенно утруждаясь, прочесть, что и где написано. Я вижу слова под чернильными кляксами, не пропускаю того, что написано сбоку, сверху, и всех тех указательных стрелочек, которыми испещрен каждый твой лист.
И каждый раз, когда смотрю на текст очередного твоего выступления – поражаюсь! Да, поражаюсь неизменно, как точно ты подбираешь слова, фразы и обороты, что даже через бумагу чувствуется их мощь и неколебимость.
Ты и сам…неколебим.
Я не знаю, что творится в залах вашего Конвента, Национальном Собрании и вечерах, я не знаю, что говорят другие – только газеты могут сказать что-то, но они не отразят ведь ничего, кроме сухости фактов, и от этого моего незнания мне досадно. Я так люблю слушать, когда ты репетируешь или, когда к тебе приходят и у вас начинается спор…или не спор – всегда сложно понять, когда вы протестуете друг против друга, когда возражаете, а когда поддерживаете. Я поражаюсь этому неизменно, прислушиваясь у закрытых дверей.
И мне кажется иногда, что ты об этом знаешь! Знаешь, что я подслушиваю.
Но ты никогда не поймёшь истинной моей причины. Ты можешь думать все, что угодно: что я просто любопытная женщина, что я патриотка и истинная служительница нации, но ты никогда не угадаешь, что я слушаю даже не речи, в которых безумно много непонятного, а то, что я слушаю тебя, твой голос и все то пламя речей, все обороты и даже эта чертова латынь, которой я не умею понимать – вот, что мне важно!
Я уверена, что ты можешь любить. Видела карикатуры (о, как они были бездарны, я купила несколько и тут же сожгла), в тех карикатурах ты изображен как палач, существо жестокое, насквозь кровавое, бессердечное, но я знаю, что ты можешь любить.
Просто пока люди любят друг друга, ты полюбил ту единственную, что может быть равной твоим чувствам – Францию.
Ты любишь ее так, что тебе не жаль никого и ничего ей в жертву. Ты отдашь ей свою жизнь и свою душу также спокойно, как чужие души и чужие жизни. И, если бы я могла заслужить хоть один благосклонный взгляд, принеся себя в жертву, я бы сделала это.
Но я только и могу, что переписывать. Я ничего не понимаю в борьбе, и в том, как попасть в нее. Я хожу тенью по улицам, стараясь не отвечать на вопросы хмельных от дешевого вина или побед (а может быть – поражений) граждан, не говорю, у кого я работаю, молчу о своем мнении на чье-нибудь выступление…
А как мне не молчать? Я – тень! Я тень в твоем доме. Мне кажется, что ты не назовешь моего имени или не узнаешь в толпе, потому что тебе неважно, кто переписывает для тебя речи – тебе важна лишь суть того, что они переписаны аккуратно, разборчиво и быстро.
Тебя называют орудием гильотины, суда и смерти, а я – орудие твоего письма, твоих мыслей. Если угодно – я твои перо, чернила и рука.
И я до ужаса хочу потерять все чувства!
***
В мои обязанности входит только переписывать за тобою, раскладывать листы в пронумерованном тобой порядке – работа трудная, потому что ты, как правило, готовишь сразу не меньше четырёх-пяти речей и выступлений в день. И у меня остается только один вопрос – как ты вообще это успеваешь?!
Тебя часто нет. Ты где-то выступаешь, ходишь с кем-то по улицам, и откуда берет исток твоя неутомимость? Возвращаясь, ты садишься за бумаги, что-то пишешь, ходишь по комнате взад-вперёд…
Мне чудится, что тебе не нужен сон вообще. Сон это для людей, а ты едва ли человек. У людей не бывает такой работоспособности. Люди нуждаются в отдыхе, в пищи…
В мои обязанности не входит готовить тебе обед, но я занимаюсь этим, и едва ли ты вообще заметил это! Впрочем, мне это делать легко – надо унять мысли, отвлечься, а тебе, если не ставить периодически еду, ты и не вспомнишь долгое время о том, что вообще нужно есть. Тебя угнетает все то, что нуждается в подкреплении. Тебя раздражает, что нужно есть, спать – это всё отнимает части жизни…
И, наверное, я тоже безумная, как и ты, как и наши улицы, если это я в тебе тоже люблю.
Каждый раз, когда за тобой закрывается дверь – мне кажется, что ты уходишь навсегда. Я не знаю – вернешься ты через полчаса или в ночь, или вообще не придешь, если вдруг что-то изменится, и ты сам погибнешь!
Тебе плевать на свою жизнь, уж точно плевать на мою, и я знаю, что смерть забирает лучших. Ты слишком сильно на виду, любимец толпы – и это сыграет злую шутку. Я знаю, что так часто бывает.
Впрочем, может быть, я просто совсем глупа? Может быть, ты видишь на сто шагов дальше, и давно уже знаешь, как уйти от смерти? Если бы ты хоть раз поделился своими мыслями!
***
Но каждый день одинаков.
Я встаю, когда утро только начинает сереть. Мои ноги касаются холодного каменного пола, и я просыпаюсь, умываюсь холодной водой, наспех одеваюсь, кое-как прибирая волосы, тороплюсь в свою каморку, что прячется подле твоего кабинета и жду.
Ждать недолго – около пяти минут, а потом открывается дверь, и входишь ты, на ходу перечитывая листы. Замираешь, увидев меня:
-Доброе утро, ты уже встала?
И, не дожидаясь моего ответа, уже возвращаешь к бумагам:
-Мне нужно это в первую очередь, это к обеденному выступлению. Это к вечеру. А это в двух экземплярах – это я отошлю. Так…это вот не готово еще – отложи, но напомни вечером. Или завтра утром.
Забираешь готовые речи, сухо благодаришь или ограничиваешься кивком и выходишь прочь – к тебе уже обычно к этому времени кто-то да уже приходит или ты сам торопливо уносишься, в любом случае – у меня остается где-то четверть часа, чтобы привести себя в порядок, собрать какой-нибудь завтрак и приступить к работе.
Я научилась делать все с максимальной быстротой и аккуратность.
И каждое утро одинаково серое, похожее на предыдущее. Лишь раз ты задержался. Я ждала уже пять минут, десять, четверть часа…
Уже беспокоилась, что ты заболел, как вдруг открылась дверь, и ты вошёл, наконец, с кипой бумаг, неожиданно, не желая доброго утра, промолвил с извиняющейся улыбкой:
-Не мог сочинить одному паршивцу достаточно оскорбительного памфлета!
И снова унесся прочь.
А памфлет тот я не переписывала – я прочла его в газете. Действительно, едкий и блистательный слог, пестрящий разнообразными сравнениями, намеками и отсылками.
-Из тебя мог бы выйти потрясающий поэт, - неосторожно заметила я следующим вечером, когда передавала готовые работы в его руки. – Прочла твой памфлет в газете…
Последовала насмешливая улыбка:
-Памфлет удался на славу!
И тут же грусть коснулась твоего лица – грусть странная, незамеченная мною прежде, сделавшая твое лицо еще более красивым.
-Только вот он нашел его слишком уж напыщенным.
-Кто? – быстро переспросила я, в общем-то догадываясь, чье мнение так ты уважаешь и принимаешь.
Ты не ответил, отмахнулся и вернулся к бумагам, проверяя переписанное мной. Оставалось только выйти.
***
Твои гости – одинаково мрачные, насквозь серьезные, торжественные. Их карикатуры болтались по улицам, их портреты на этих улицах же и рисовались, перерисовывались – странное дело!
Про некоторых говорили шепотом, будто бы опасаясь, что могут услышать, но говорили все, что думали. Про других говорили открыто, но тщательно выбирали слова. И это был странный контраст – говорить тайком, но то, что в мыслях, или открыто, но по заученному?
А заученное менялось с быстротой, неподвластной разуму. Сегодня надо было хвалить кого-то, и его хвалили, а завтра – ругали, так как надо было ругать.
Я подкрадывалась к твоим дверям, я слушала ваши обсуждения, потому что желала слушать именно тебя, твой голос – но даже так, не понимая и преследуя лишь одну, как ты бы сам сказал «низменную» цель, я понимала, что всё не просто так и скоро…непонятно как быстро, но скоро, что-то произойдет очень страшное.
И страх сжимал мне горло петлей, и, только цепляясь за стену, чтобы не упасть, я находила в себе силу устоять, прогоняя страшное видение и твоей смерти.
Я зажмуривалась, и чёрная холодная вода Сены словно бы уже касалась меня, словно бы уже произошло то, самое страшное действие и оставалось только броситься в нее, в воду, в бездну и пришло бы утешение моих кипящих мыслей.
***
Даже самые неутомимые могут ослабевать! Ты отрицаешь это, я знаю, пусть ты и не догадываешься об этом моем знании, но я вижу иногда, как теряется твой взгляд, как ты смотришь в окно, явно не видя его.
Если бы ты поделился своей ношей! Если бы только поделился ею со мной, клянусь, тебе стало бы легче!
Я – тень, тенью была и тенью умру, но я могла бы забрать хоть часть твоей боли и тяжести. Если бы ты только доверил мне эту тяжесть!
Тень не имеет права любить и быть замеченной в этой любви, но тень может быть рядом. И я остаюсь рядом с тобой, хотя меня давят и стены, и тошно смотреть в окна. Я боюсь, но я – тень, я буду рядом, даже если ты не заметишь моего присутствия, даже если ни разу ты не назвал меня по имени.
И пусть я проклинаю тот день, когда веселье по улицам сменилось вдруг для меня нуждой, когда в борьбе, в которой меня и не было толком, я потеряла всех своих близких и почти все свое имущество, и только вмешательство моего дяди спасло меня от переселения в нищету. Пусть я проклинаю его предложение пойти в переписчицы к «моему хорошему знакомому» - так он тебя назвал, но я не могу уже ничего изменить.
Помню, я возмутилась, вспыхнула:
-Как же я пойду работать и жить к одинокому мужчине, будучи незамужней? Это слишком вольно!
И дядя тогда странно усмехнулся:
-Не переживай, племянница, он не заметит. Ему важнее всего дело, а кто ходит по его дому зачем – ему уже неважно.
Тогда я не поверила, что такое вообще бывает. Потом же встретила тебя и поняла, как была глупа – ты действительно едва заметил меня.
Кивнул, соглашаясь с моим присутствием, наспех показал комнату и унесся. А следующим утром я приступила к переписыванию.
***
Мой дядя умер через две недели от моего прихода в твой дом. Я много плакала, да так, что даже ты заметил мои слёзы.
-В чём дело? – последовал логичный вопрос.
-Единственный близкий мне человек погиб, - меня почти парализовало от того, что ты заговорил со мной, так было в самом начале, когда я еще полагала, что ты способен чувствовать что-то не только к Франции, но и к женщине.
-Мы на войне, - ответил ты, - наши враги не дремлют. Они ответят за все свои грехи. Ответят, когда мы победим.
И в тот день я впервые поняла, что «мы победим». Раньше это была лишь мечта и иллюзия, но когда об этом сказал ты – я поняла, что иначе и быть не можешь, иного ответа и варианта ты не видишь.
Мы победим – и это правда.
Мы победим – мы больше не слуги. Над нами нет больше господ и все равны. Крик моего рождения равен твоему и крику рождения нищего – и нет никакой разницы. И поэтому мы победим.
***
Ни разу я не сделала ни одной попытки приблизиться к тебе. Ни разу! Во-первых, вряд ли ты бы заметил. Во-вторых, я не хотела портить себе жизнь. Так, находясь с тобой в одном доме и, даже зная, что когда ты здесь, ты все равно не рядом – твои мысли ведут тебя далеко, я могла знать, что ты хотя бы жив.
А как я могла бы это знать, если бы мне пришлось уйти от твоего гнева или удивления, которым ты бы сопроводил наверняка мою глупую попытку?
А мне бы пришлось. Хуже признания – отказ.
К тому же, я даже не знаю, какая пытка хуже неразделенного чувства, разве что – принятие этого чувства? Даже если допустить мысль, что ты был бы моим, мне было бы хуже в сто раз – ведь тогда мне точно не выбраться из плена твоих мыслей, слов и действий. Так я утешаю себя тем, что все пройдет, когда я оставлю работу, но, если это не так?
***
Год начинается паршиво. Паршиво даже для последних лет. Внезапно звучат совсем уж громкие имена и звучат они не в хвальбе. Кажется, толпа и народ, за которые вы…мы (я же помогаю тебе!) боремся, начинает гневаться на вчерашних любимцев.
Начинаются какие-то странные гонения на тех, кто казался незыблемым и неприкосновенным. Я смотрю на твое лицо внимательнее и вижу спокойствие, которое пугает меня до дрожи в коленях.
Не бывает у людей такого спокойствия.
Затишье – гонения, снова затишье и снова – клеймят. У меня ощущение, что вся Франция обратилась в страшные качели, которые толкает взад-вперед какая-то неведомая сила, что издевательски хохочет над каждым потрясением.
Народ сложно удивить.
Смерть уже не кажется страшной. Собственная смерть даже веселит улицы. Для всех обычны стали шутки, покрывающие проулки:
-Эй, Жан, когда ты умрешь?
-Ну, знаешь, Пьер, завтра моя жена готовит пирог, значит – к пятнице!
Или еще:
-Лукер, скажи-ка, зачем ты хочешь занять монет?
-Да что б успеть, пока ты жив.
-А если ты первым умрешь, Лукер? У кого мне спросить мой долг?
-А ты займи у меня!
Вчера же видела карикатуру – палач казнит сам себя на гильотине. Ужасная картинка, дрянная – порвала и выбросила. Но куда же выбросить это из памяти?
А на улицах:
-Есть вещь страшнее гильотины – раздать долги!
-Или дать в долг! Не вернут же!
-А каково отмывать нож? Вот уж точно – хуже нет!
Смерть не кажется людям страшной. Если бы казнили меня – я бы даже восприняла это избавлением, но кто тронет Тень, у которой нет собственных идей, мыслей и борьбы? Я боюсь за тебя, за твою смерть и за твою жизнь.
Я вижу, в каком бесславии уходят любимцы народа!
***
И когда приходит июль, я замечаю, что ты не спишь совсем. Я вижу круги под глазами и следы бессонницы. Ты не таишься от меня, не считая вообще важным это занятие.
Я пытаюсь с тобой заговорить, но у меня не выходит – ты становишься мраморной стеной, ты весь из камня. И только глаза выдают что-то, что я не видела прежде. Такая печаль и тень…предвестная тень.
Ты чувствуешь то, что чувствую и я. Ты оглядываешься так, как оглядываюсь я – тебе кажется, как кажется и мне, что кто-то еще ходит по дому, что скрип половиц – это не ветер, а призрак, видение, гость…
Сон оставляет тебя. Мысли тревожат и дразнят. Мысли кипят и не дают тебе покоя, но я не знаю, как утешить то, что сама в себе не могу заткнуть и успокоить. Я была бы рада, но все мои усилия разбиваются о пустоту.
Я не собираю причесок, на моем платье немного разошелся рукавный шов, но у меня нет сил зашить его. Пальцы не слушаются.
А в твоих речах все больше опечаток и клякс. Ты путаешься в собственных указаниях, говоришь, что речь нужна к вечеру, но приходишь за нею в обед, извиняешься, но тут же спрашиваешь о чем-то отстраненном.
И я не могу тебе помочь. Я пытаюсь казаться беспечной, но не могу.
Однажды ты спрашиваешь вдруг:
-У тебя есть на меня обиды?
Я качаю головой и отвечаю чистую правду:
-Нет, ни одной.
Это правда. Он не виноват, что я его люблю. Он не виноват в то, что даже не видит этого и не догадывается. Это мои проблемы и только.
-Я не знаю…- тебе страшно идет смущение! – всегда ли я аккуратно и исправно платил тебе? Сколько должен?
Неисправно, конечно. Но мне ничего не надо, кроме пищи и крыши над головой. Я не хочу ничего.
-Исправно, - лгу и хочу верить в то, что он не разбирается во лжи, - нет никакого долга.
-Если… - я знаю эту твою манеру тоже, когда ты прячешь слова за неловкостью, - если тебе понадобятся деньги, там, в шкатулке – возьми сколько нужно.
-Прошу прощения? – страх сжимает горло, мне снова кажется, что это Сена обвивает меня холодной водой.
-Если тебе понадобятся деньги, возьми в шкатулке столько, сколько потребуется, - ты справляешься с неловкостью, берешь себя в руки, становишься прежним, если не считать горящего странным огоньком взгляда, - и вообще, бери все, что захочешь в этом доме!
Ты выходишь. Торопливо выходишь, опасаясь, очевидно, что я брошусь спрашивать про то, что я могу взять…
Как ты все-таки бываешь слеп! Может, ты и видишь на много шагов вперед, но ты не видишь по сторонам! Единственное, что мне нужно в этом доме, что я хотела бы взять с собою, если придется уходить, это ты!
Но вот только ты не вещь. И уж тем более, не моя вещь.
***
В тот день, проклятый июльский день ты выходишь в странном лихорадочном возбуждении. Но ты не отдаешь мне речи и бумаг, что в твоих руках, поясняешь:
-Сегодня не нужно!
Уходишь прочь, а я вдруг очень сильно хочу, чтобы ты остался и, даже, кажется, не удерживаюсь от вскрика, когда закрывается за твоей спиной скрипучая старая дверь.
У меня все валится из рук. Меня лихорадит, как в горячке. Меня мутит, но я упорно пытаюсь приготовить обед, хотя даже смотреть на еду в этот день почему-то не могу.
И всем сердцем своим я проклинаю июль, и мне холодно от воды, которая плещет где-то в глубине моей души, это Сена… Сена подбирается ко мне все ближе и ближе, боясь, что я от нее сбегу.
Ты не приходишь к обеду, но я жду. Терпеливая, жалкая тень.
Ты не приходишь к вечеру. Сена уже плещет где-то в горле, мне хочется плакать, но я даже плакать уже не могу – так больно глазам от подступающей темноты.
Ночь. И снова тишина. И снова ничего. Я ненавижу каждого, кто проходит по улице, проклинаю каждого, кто громко говорит и смеется. Проклинаю про себя, потому что губы пересохли и онемели.
Утро… стук в дверь, приносят безликую серую газету, которую обычно читал ты, а я потом перечитывала, пролистывала ее. Я беру газету двумя пальцами – почему-то бешено стучит сердце. Раз-два, раз-два, раз-два…
Быстрый-быстрый, мелкий, дробный стук.
Раз-два, раз-два.
Еще до того, как коснется мой взгляд первой полосы, я уже знаю, что прочту.
Раз-два-раз-два-раз-два.
Сена бурлит в желудке. Меня тошнит от страха и от того, что весь прошлый день я не ела. Но мне все равно – на первой полосе я читаю про обвинение тебя в измене Франции и твой арест. И с каждой буквой все плотнее черная вода у моего горла.
#78809 в Любовные романы
#1963 в Исторический любовный роман
#25233 в Разное
#6715 в Драма
Отредактировано: 28.01.2021