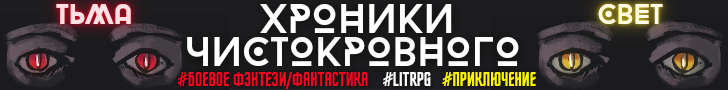Тридцатый сектор
На исходе лета
Кип вскочил до рассвета. Тьма колыхалась в общей спальне, вязкая и густая. Солнце еще не взойдет, а воздух растворится акварелью, тени побегут по углам, сестры зароются в подушки, а из кухни потянет жареным хлебом. Мать уже встала, она всегда поднимается раньше других, а сегодня — уж сегодня точно! — и Кип должен успеть ни свет ни заря.
Перепрыгивая с решетки на решетку, Кип вылетел на кухню. За окном буро-цветной громадой простирался город — с холма он был виден, как на ладони. Когда мать не видела, Кип забирался на кухонную стойку с ногами и, прижавшись к стеклу и носом, и ладонями, глазел на пятна реклам, колечки неоновых вывесок и голограммы новостных сводок.
Они жили в хорошем месте: большинство семей ютились в долине, в одноэтажных домишках, которые сжимали друг друга будто соты. И в тридцатом секторе, на возвышенности, дома простором не отличались — все-таки, простым семьям выделяли только самое нужное — но здешним жителям достался еще и вид. А в последний вечер лета зарево рисовалось отсюда таким буйным танцем стихии, что Кип замирал у окна, как зачарованный.
Только мать уходила в спальню, не сказав ни слова. Кип знал, что она опустится на колени в углу, перед металлическими образками богов, и будет полночи молиться. Он выходил к ней только через несколько часов, когда языки пламени над очередным сектором опадали, и в воздух летели одни только искры. Потом смотрел матери в спину и каждый раз удивлялся.
Церемония сожжения ведь так красива! Почему же мать плачет и шепчет что-то выдавленным на металле лицам?
Но в этом году о предстоящей церемонии Кип не думал. Не до того. Он столько всего не сделал! Лето на исходе, а список еще не закончен.
— Опять побежишь к своим?
Мать улыбнулась тихо и нежно. В последний день лета она всегда была такая: мягкая, очень молчаливая, и на Кипа не сердилась. Все шалости, все глупости и разбитые чашки ждали осени, и там уже можно было злиться, ругаться и даже кричать. Но только не сегодня.
Плюхнувшись на табуретку, Кип подпрыгнул.
— Ага! Еще три пункта. Вот, смотри.
Он развернул пластинку планшета. Список светился на кухонном столе загадочно, почти волшебно. Пока мать читала, Кип принялся глотать омлет, почти не жуя.
— Ну-ка… — нахмурилась она. — Старый пруд? В воду смотри не суйся.
— Да ты что, — фыркнул Кип. — Мы только посмотреть! И лягушку поймать, если получится. Говорят, там во-о-от такие квакши.
Мать улыбнулась, и глаза у нее заблестели. То ли счастье, то ли страх. Да страх-то откуда?
— И вот еще: карамельная вата. С шоколадным соусом, кокосовой посыпкой и звездочками. Можно? — заканючил Кип.
Мать только вздохнула и выудила из передника две монеты.
— А это? — она указала на последнюю строчку. — Забраться на колокольню.
Мать сложила руки на груди. Кип прихлебнул какао и вытерся рукавом.
— Совсем маленькая. Коротенькая. Не выше двух домов. И лестница там каменная. Крепкая.
— Каменная? — мать сощурилась. — Это руины, что ли?
Кип закивал.
— Вот что, — сказала она, и улыбка на ее лице растаяла окончательно.
Кип сжался. Ну, все, не разрешит. Даже сегодня. Сегодня! Но летний список — это святое! Лето — это целая жизнь. Не успел свой список за лето — и в жизни ничего не успеешь!
— Поболтайтесь-ка там с ребятами подольше. Раньше полуночи не приходи. Уж лето — так лето.
Она снова улыбнулась. Кип взвизгнул и бросился ее обнимать. Передник пах ванилью, сладкими травами и имбирем, а Кип, прижавшись лицом к животу матери, чувствовал себя самым счастливым мальчишкой на всей земле.
На пруду было влажно и душно: после полудня парило, как будто церемония уже началась. Кип только и делал, что смахивал со лба пот.
— …и платье уже готово. Все готово.
Лицо у Мирны так и светилось. Она сидела на камне, изящно поджав под себя ноги, а Трид устроился рядом, прямо на земле. Не сводил с нее глаз, такой влюбленный болван, что просто тошно. Вихрастый, пухлый, вечно красный — и почему он понравился Мирне? Такого румяного пирожка еще поискать.
— Самой красивой там будешь, — пообещал он Мирне и вздохнул. — Академия, ты ж подумай! Жаль, мне надо на фабрику. Иначе ведь выпрут, а я еще за печенку не выплатил.
Локус, долговязый, как кузнечик, и веснушчатый, как будто солнце выплеснулось на него через сито, сочувственно закивал.
— Я вот легкие в прошлом году менял, до сих пор отдаю.
— У тебя сколько процентов? — спросил Трид.
— Да почти целиком съело. Сначала бронхит, потом еще какая-то дрянь началась…
— Да нет, на займ твой.
— А, ты про это, — Локус повел плечом. — Пятьдесят четыре.
Трид присвистнул.
— Да ничего, вон моей тетке пришлось мозжечок менять, так там все восемьдесят. На сложные операции займы всегда дорогие.
— Значит, у меня ерунда, — протянул Трид. — У меня тридцать восемь.
— Мальчики, — скривилась Мирна. — Давайте-ка без этих ваших анатомических подробностей, ладно? Тошнит уже.
— Тебе хорошо, — завистливо буркнул Локус и пнул камешек. Тот отскочил и плюхнулся прямо в ряску. — Вот стукнет тебе двадцать, начнешь разваливаться, как старуха, тогда и поговорим. Об этих… и об анатомических, и о каких захочешь.
Мирна вскинула подбородок.
— А вот и не начну. А если и начну, то папочка за все заплатит. Никаких ваших дурацких займов.
— Ну вот. Вот, — Локус развел руками. — Говорю же, тебе хорошо.