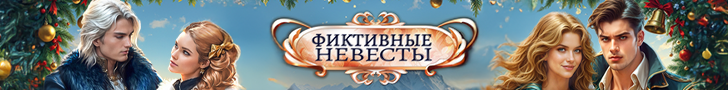Вегетация
Вегетация
Когда я пошел в первый класс, мой дед, Арсений Николаевич, дал мне с собой букет белых георгинов. Каждый из людей ассоциировался у него с каким-нибудь растением или цветами, он придавал этому едва ли не сакральное значение. Вероятно, потому, что был талантливым садовником и цветоводом, всю сознательную жизнь зарабатывал продажей изящных, элегантных букетов. Он самостоятельно выращивал цветы в своей знаменитой на весь район оранжерее, отдавался делу с завидным рвением, граничащим с маниакальностью. Без сомнения, садоводство было его одержимостью, но дело свое Арсений Николаевич знал — к нему охотно приходили покупатели, наслышанные о прекрасных и необыкновенных букетах, которые он собирал с любовью и трепетом.
«Когда мы умрем, наши тела станут прахом, — говаривал дед. — Со временем все мы обратимся в цветы, а может, и в нечто большее». Ребенком я часто бегал к нему в оранжерею, но с годами утратил интерес к растениеводству, предпочитая заниматься живописью. А вот мой двоюродный брат Ромка безумно любил все эти ванды, кальцеолярии, цимбидиумы, строфанты и многое другое.
Мне было тридцать два, а Ромке — двадцать четыре, когда наш дед умер. С Ромкой родственные отношения складывались не слишком удачно: у нас обоих уже умерли родители, единственным родным человеком оставался дед, перед которым Ромка трепетал, а потому считал меня вроде как предателем семейного дела. По правде сказать, мой брат был достаточно впечатлительной натурой, если не сказать неустойчивой, но я всегда стеснялся признать это в открытую, будучи человеком сдержанным и неконфликтным.
Шел дождь, гроб с дедом засыпали землей два традиционно угрюмых могильщика, я стоял с лицом, лишенным эмоций. Ромка едва заметно трясся, силясь сдержать готовые вот-вот вырваться слезы. Мне бы подойти и крепко, по-братски сжать его плечо в знак сочувствующего понимания, но крепко я сжимал только губы. Смерть деда ничего не меняла. Свое сожаление нам выражали постоянные клиенты Арсения Николаевича, преимущественно дамы в возрасте. Друг моего отца, дядя Сеня, был единственным человеком, чье присутствие на похоронах меня поддерживало. Он думал примирить нас с Ромкой, но впустую — мы с братом выросли людьми упрямыми, даром что разными.
После похорон Ромка ушел к себе домой — он жил у деда, а теперь жилище последнего вместе с оранжереей, огородом и садом, равно как и дело жизни, перешли ему по наследству. С дядей Сеней мы помянули усопшего, вспомнили, каким порой странным он был, однако старались думать только о хорошем — Арсений Николаевич помогал мне после смерти родных, пока живопись не стала приносить относительно стабильный доход. Ромку он также поднял на ноги, к тому же передал ему свои знания и умения, не говоря уже о любви к цветам. Впрочем, мысли о том, что Арсений Николаевич обладал незаурядностью, могущей вызвать как восторженное уважение, так и недоумение с испугом, не покидали меня. Дед до конца своей жизни оставался личностью далекой для меня, вызывающей больше вопросов, чем дающей ответы. Может, меня беспокоила его скрытность — с тех пор как я отказался обучаться премудростям пестиков и тычинок, дед стал для меня нечто вроде закрытой книги. С Ромкой он охотно делился всем, что знал, видя в нем продолжателя — или наследника, если хотите. А я… Не могу теперь сказать, кем я был для моей семьи.
На сорок дней мы с дядей Сеней навестили могилу покойного. Ромке я звонил, думал позвать с нами, но он так и не ответил.
Стояла жаркая июньская погода, мы с дядей Сеней едва успевали утирать со лба капли вязкого пота, когда нашим глазам открылось довольно пугающее и примечательное зрелище: на могиле деда выросли цветы, определить которые я не мог, хоть и обладал некоторыми познаниями в ботанике. Сам их внешний вид вызывал тревожные и неприятные ассоциации. Я нигде не видел такого сочетания толстых стеблей и широких листьев, напоминавших растопыренные человеческие ладони — учитывая еще и бежево-розовый окрас; двугубые цветки походили на головы маленьких гомункулусов, а две обособленные группы коротких синих тычинок, парадоксальным образом расположенные в одном цветоложе, казались огромными бездонными глазами. Незнакомые мне растения были чересчур отталкивающими, чтобы сохранить их на могиле покойного родственника; казалось, кто-то захотел поиздеваться над доброй памятью всеми любимого талантливого цветовода и вырастил над местом его упокоения отвратительные цветы. Мы с дядей Сеней решили выкорчевать их, что незамедлительно и исполнили. Я подумал, не показать ли их брату, и дядя Сеня поддержал мою идею — уж кто-кто, а Ромка должен был знать, что это за невиданная поросль.
Брат встретил нас холодно — для него будто и не существовало такой традиции, как сороковины. Дядя Сеня выступал в роли примиряющей. Я только держал губы стиснутыми, не в силах выдавить из себя ничего миролюбивого. Ромка пригласил нас на кухню, где угостил довольно экстравагантными блюдами и налил хорошего красного вина. Казалось, он всё же вспомнил о том, что покойный — наш общий родственник и любили мы его одинаково. За столом речь шла о том, о сем, но дядя Сеня тактично перевел разговор в область насущного. Помянули Арсения Николаевича, и дядя Сеня, важно посмотрев на меня, предъявил моему брату найденные нами цветы. Глаза Ромки тотчас округлились — от удивления, восторга и даже едва уловимого страха.
— Где вы это нашли? — прошептал он, но уже знал наперед, что мы ответим ему. С величайшей нежностью он взял в руки мерзкий цветок, словно это был его ребенок. В глазах брата засверкали слезы, причину которых мы с дядей Сеней никак не могли понять — мы вообще не понимали, что происходит. Ромка долго всматривался в растение, изучая каждую его отвратительную деталь — я невольно делал то же самое и вскоре о том пожалел. Чем больше я смотрел на проклятый сорняк, тем более неприятные аналогии он у меня вызывал — казалось, что брат вертит в руках нечто явно не из мира растений, скорее уж некую конечность или часть человеческого тела.