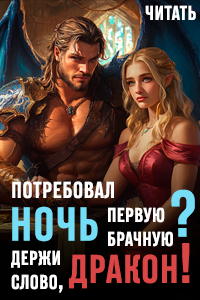Винсент
Винсент
Солнце жгло немилосердно.
Казалось, оно задалось целью расплавить череп прямо на макушке, прожечь дыру и вкрутую сварить мозг. Воздух дрожал, крепко скрученный зноем, увязший в нем, как мошка, прилетевшая в надежде полакомиться медом из кадки и неожиданно обнаружившая, что выбраться из нее она не сможет уже никогда.
Шляпы на нем не было.
Он не носил шляп, они мешали ему.
Солнце, радостно глядящее на редеющую шевелюру, казалось почти начало пузыриться от натуги. Он не обращал внимания, он писал.
На холсте проступали пучки фиолетовых червей. Сцепленные ближе к центру, они извивались, стремясь уползти в разные точки полотна. Между и под червями появились мазки оранжевого и коричневого, над – мучительно-голубого, поверх которых чуть позже ляжет желтая лузга – отпечатки, наставленные на небе арльским солнцем.
Он писал.
Как всегда, стремительно, неудержимо, забыв обо всем. Черви на холсте толстели и укоренялись, обзаводились придатками и чем-то, отдаленно напоминающим травяные юбочки туземцев. Возможно, это прорывалась глубокая тоска по Полю. Тот снова не приехал, хоть и обещал.
Или он уже приезжал?
- Винсент!
Здесь только он и его мольберт. И склон, владеющий норами, в которых поселились цепкие корни. Над склоном небо, неугомонный мистраль и ополоумевшее июльское солнце. Кто из них его позвал?
- Достаточно, Винсент. Пора.
- Я не дописал!
Упрямо сжав в руке кисть, закусив обветренную губу, он вновь набросился на холст. Солнце пекло, впечатывая в виски боль, он привык не обращать внимания на нее. В последние недели он редко тратил на создание картины больше нескольких часов. Они писались сами, мгновенно, все, что он делал – лишь держал кисть. Она сама знала, что и как ей писать, сама выбирала оттенки и смешивала краски, сама намечала композицию и расставляла акценты, все, что ей требовалось – чтобы ее держали, и он держал. Не обращая внимания на скачущее по макушке солнце, удары мистраля, укусы настырных насекомых, выискивавших местечко на покрасневшей коже, и голос, периодически пытавшийся что-то ему втолковать.
- Винсент, ты убиваешь себя. Ты себя гробишь.
Это было правдой, он это знал.
И старательно приближал.
Какой резон продолжать борьбу?
Для чего?
Он проиграл.
Еще тачка картин. Великих картин, как считал он сам. Но он был один. Как и всегда, один. А все остальные считали, что это мазня. Безумная и уродливая, нелепая мазня. Такая же, как и он сам.
- Винсент, остановись!
- Не хочу!
Он действительно не хотел. Наверно, даже не мог. Зубы ныли, сводило живот, воздух перед глазами расплывался и мелко дрожал. Что-то гупало в виски, растекаясь под черепом болезненной волной. Нужно уйти в тень и поесть. В тень и поесть. Тени здесь не было – ни склон, ни деревья ни дают тень, где ж ее взять, а поесть… он что-то ел… вчера. Кажется, это было вчера. Он не помнил, отсутствие еды давно перестало его волновать. Она отсутствовала почти всегда. А ведь присланных денег могло хватать, но он так и не научился их распределять. В этом он тоже был бестолков. Как и во всем остальном.
Еще немного, и картина будет завершена. Пару мазков. Здесь.
Почему у него такая тяжелая голова? Как тележка, доверху груженная углем. Так трудно ее держать. Но нужно дописать. А потом, если сил не хватит, пусть отвалится и катится куда-то в поля. Там, между высоких трав, в их прохладе, ей будет хорошо. Травы примут ее.
Это будет хорошая картина. Он измучен, голоден и безмерно устал. Но пока он знает, что сможет написать хорошо, он будет писать.
- Винсент!
Он будет писать!
Да, порой безысходность пожирает его, и он сутками лежит на кровати, не желая вставать.
Но когда она отступает, а она всегда отступает, он ощущает, что все еще, пусть не так самозабвенно, как раньше, но он все еще хочет рисовать.
И тогда он поднимается затемно, хватает мольберт и выходит из дома до того, как ночную чернь начинает серить первый рассветный луч. Вместе с солнцем он уходит за края городка, растворяется в полях, переливая на прихваченный с собой холст их ошеломляющую красоту. Буйство красок слепит его, наполняет лихорадочным рвением запечатлеть их и сохранить – на годы, на века. Травы пожухнут, цветы опадут, колосья будут сжаты, створы деревьев засохнут, превратившись в мертвые пни, но на его холстах они сохранят всю живость своих лучших дней. Они будут расти и цвести. И полыхать желто-зеленым огнем.
Но иногда краски отказываются светить для него. Превращаются в унылую пелену. Солнце заслоняют тучи воронья, превращая его в серый шар. И руки опускаются. Из потерявших хватку пальцев выпадает кисть. И он не понимает, зачем так упрямо продолжает писать.
- Винсент!
Если смотреть на черные точки, их становится больше.
Они близятся.
Он старался игнорировать их. Брал желтую краску, зеленую и голубую, и жирными мазками закрывал их. Замазывал воспоминания о лицах и голосах не случившихся людей.