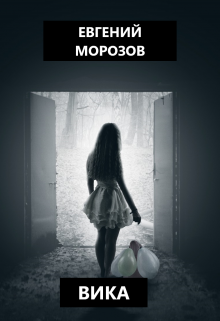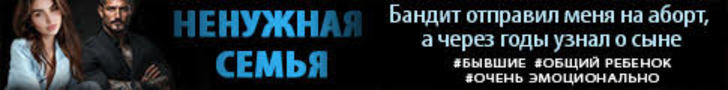Волосы
Волосы (миниповесть)
1
Чертовски не люблю убираться у себя в комнате. Мало того, что она съёмная, что окна выходят на смердящие мусорные баки, которые по приказу кого-то решили поставить именно под моей квартиркой; что за окном круглые сутки пасмурно; что это первый этаж и постоянный лай собак и скребущихся бомжей в мусоре не отстаёт от меня ни на секунду, в довесок к этим прелестям я ещё вынужден убирать волосы за своей любимой по всей квартире. Но поймите, это звучит не странно, если разобраться в деталях. Факт номер один: она работает сутками в больнице, уходит утром, приходит утром. Потом отдыхает ровно сутки, во время которых у неё либо "те самые дни", в результате которых она не может ни встать с кровати, ни приготовить ужин. Такая, говорит, физиология. Либо спит. Всегда спит, даже на маленькие радости отношений у неё нет сил. Факт номер два: в последнее время её копна волос опадает, словно листья по весне, словно собака линяет, да простит мне это сравнение моя благоверная.
- Может, к врачу? - как-то спросил я её, бесполезно шаря по каналам телевизора.
- Зай, какие врачи, - ответила Катя, разглядывая себя в маленькое зеркальце, - у меня на себя-то времени не хватает с этой работой, а по врачам ходить тем более. Угомонись.
'Угомонись'. Как я ненавижу это её слово, которое она употребляет повсеместно в своей 'богатейшей' речи. 'Котя, будешь бутерброд?' 'Угомонись, я устала'. 'Котя, может, сходим куда-нибудь?' 'Угомонись, я сплю'. 'Котя, может, секс?' 'Угомонись'. Тут, да, просто угомонись. Даже отмазки не соизволит придумать. Так и живём. Я учусь в институте, изредка подрабатывая, она - работает сутками, а оставшееся время спит и 'угомоняет' меня. Иной раз кажется, что в этом вся она. 'Угомонять' всех и вся, чтобы не мешали её спокойной спячке.
И, будто, мне это нужно. Разве сходить к врачу - это не значит потратить время на себя? Тем более, когда невооружённым оком видно, что в твоём организме что-то перевернулось, и перевернулась ты, осыпая волосами нашу маленькую съёмную каморку.
Вот и сегодня, я выгребаю эти пучки ото всюду, где ступала нога моей Кати. Можно даже проследить, по разбросанным волосам, что она делала утром, когда собиралась на работу и какие помещения квартиры посещала. Я заправляю кровать и вижу три маленьких пучка, соскребаю их рукой и кидаю в ведро, которое даже специально завёл для Катиных волос. Просто, знаете, интересно стало как-то, сколько за одно утро она теряет своей драгоценной растительности. Вот, Катя встала, и с неё осыпалось три пучка. Кидаю в ведро. Оглядевшись по сторонам, я вижу немного на полу. Этот 'волосяной' след ведёт к зеркалу. Так, тут всё ясно, пошла смотреть насколько сильно опухло её милое личико за ночь. Возле комода с зеркалом я нахожу ещё три пряди и кидаю в ведро. Продолжаем выслеживать добычу. Дальше...
Стук в дверь. Я, как был с ведром, открыл дверь и с порога на меня посмотрела привычная рожа соседки по квартире. Наглая, злая и толстая. Как можно быть такой страшной и такой сволочью одновременно? Я посмотрел на неё усталыми глазами.
- Любовь Петровна, - сказал я, прекрасно зная, что она ненавидит, когда её называют по имени-отчеству.
На это она лишь фыркнула и изрекла:
- Паша, передай своей Кате, чтобы убирала волосы с ванной, когда уходит оттуда поутру, а то совсем неприятно, знаешь ли, видеть на дне раковины и ванны пучки её волосни.
И с чувством выполненного долга эта гарпия покатилась к себе в комнату. Я закрыл дверь и посмотрел в ведро.
- Ну-с, мои маленькие, сейчас в вашем ряду пополнится...
Всё ясно, от зеркала Катя направилась в ванную комнату. 'Вам не убежать от меня, Мориарти!' - воскликнул я про себя и поплёлся в ванную собирать ДНК моей возлюбленной. Иной раз это занятие хоть как-то перебивает злость и ненависть к уборке, которая то и дело сводится к сбору волос. Дальше всё по плану: убравшись в ванной (я, кстати, заглянул даже в унитаз), направился на кухню, тут потерь было меньше - пара незначительных волосинок, потом - снова комната и сбор волос со столика с косметикой, последняя точка в этом маршруте - прихожая, где я нашёл самого главного предводителя - огромный клок. Посмотрев в ведро по окончании миссии, я понял, что армия эта с каждым днём становится всё больше и решил непременно ткнуть носом любимую в эти находки, а точнее в их количество.
К двум часам пополудни мои мучения были закончены. Ровно наполовину. Нюхая дикую вонь с помойки, слушая причитания и драки бомжей за лишнюю кость, я распластался на диване и открыл книгу.
- Говард Филлипс Лавкрафт, - изрёк я вслух и открыл маленький томик знаменитого писателя ужасов.
Осилив пару абзацев, я захлопнул книгу и уселся на кровати. Читать про разлагающиеся останки живых людей в самом что ни на есть реальном времени (а именно вонь со двора становилась неплохим три-дэ эффектом к книге) было, конечно, неплохо, но запах гниющих огурцов и прочих недоеденных продуктов меня слегка раздражал. И вот моя извечная дилемма: находиться в приятной апрельской прохладе,но нюхать отходы, либо помирать в жуткой духоте, потому что местная ТЭЦ отрабатывала свой хлеб на славу. Сегодня я решил немного попотеть и захлопнул окно, удостоившись презрительного взгляда бомжеватого мужичка, что копался в мусорном ящике.
- Да что ж туда такого выбрасывают, что Вы, бедолаги, оторваться не можете от этого бачка... - вслух подумал я, когда окно отгородило мне доступ к свежему (ну, почти) воздуху, - вот чёрт!
Я вспомнил, что забыл ведро с волосами в ванной комнате. Уже протягивая руку к дверной ручке, чтобы забрать то самое ведёрко, я услышал, как Любовь Петровна, видимо решив сходить по-маленькому (правда, с её-то телом всё выглядит "по-большому"), наткнулась на моё сокровище из спутанных волос и теперь верещит во всё горло.
- Да Вашу ж мать, Паша! Ты бы мне их на кровать ещё принёс, сколько можно! Побрей на лысо свою девку, склади всё это в шкаф и любуйся ими. Чёрта ты сюда их поставил!?
Прекрасная речь. Браво, Любовь Петровна. Такое ощущение, что она тщательно продумывала сказанное, стоя над ведром с волосами, а только потом заверещала.
- Забыл! - заорал я, не торопясь выходить из комнаты, - пусть полюбуется на тёмный шёлк моей любимой, - секунду, сейчас уберу.
Если честно, я бы давно обматерил эту стопудовую бестию. Уж очень просит она каждый божий день приятных и ласковых эпитетов. Ей всё не нравится. Ещё до того, как моя любимая стала опадать осыпая квартиру пучками волос, Любовь Петровне не нравились наши синие кружки. Нет, в принципе, с кружками был полный порядок. Просто они стояли не так в шкафу на кухне и "совсем не подходят к моим розовым кружечкам по цвету". С этого и начался маразм. Мне тогда очень хотелось её обматерить. После, ей не понравились мои кроссовки, слегка касавшиеся не совсем чистой подошвой (каюсь, каюсь) её прелестных ядовито-зелёных... башмаков. Дело было в коридоре, она орала и мне (честно!) очень хотелось её обматерить и немного дать подзатыльника. Потом пошли-поехали какие-то жизненные мелочи. Ключи висят не так, на стульчаке целая капля "Пашкиной отвратительной мочи", "хватит охать в подушку каждую ночь, будто душат кого-то" и прочее и прочее. Я бы всю жизнь её материл, если пожелаете, но... Но наша любимая и уважаемая Любовь Петровна была хозяйкой квартиры. К тому же, она два года назад похоронила своего мужа. Хозяйкой квартиры, обматерив которую, мы с моей любимой рисковали выехать на свежий воздух и поселиться совсем рядом... За окном на мусорных баках, вступая в эпические битвы с бомжами за протухшую кость.
- Извините, Любовь Петровна, - прервал я её крики, выходя из комнаты, - мой косяк, сейчас утилизирую.
- Что с тобой не так, Паша, - устало, по-отечески взглянула она на меня, - думаете, молодёжь о всякой ерунде, тырнэты ваши, сотовики, убраться нормально и то не можете совсем.
- Да тырнэты не виноваты вовсе, - улыбнулся я своей самой загадочной и милой улыбкой, чтобы сдержать истерический смех, - извините ещё раз, за доставленные неудобства.
Я поклонился и схватил забытый мною камень преткновения, что спокойно ожидал меня возле унитаза. Но так и остался стоять в известном положении, как только глянул в ведро. Оно было заполнено волосами ровно наполовину. Обомлев, я припомнил, какое именно количество волос удалось мне насобирать. Явно не полведра.
- Размножаются что ли... - прошептал я.
- Ну, долго раком будешь стоять над своим мусором? Тащи его отсюда подальше, лучше сразу на помойку.
Я выпрямился и ещё раз улыбнулся.
- Конечно, куда ж ещё.
- Кто вас знает, молодых, поставишь его сейчас возле кровати и будешь плевать в него.
Странные познания о молодёжи, подумал я.
- Нет, нет, что Вы.
Я поспешил удалиться с ведром в комнату. Закрыв за собою в дверь, я глянул на волосы. Их было больше, чем я насобирал, или мне кажется? Да чёрт с ними, мне безумно захотелось спать.
- Но кое в чём Вы правы, Любовь Петровна, - по привычке заговорил я с пустотой и поставил ведёрко, прям около двери.
Пусть любимая полюбуется, сколько с неё осыпается её чудных, густых (когда-то) волос. Задёрнув шторы от бомжей, я рухнул на кровать и уснул в тяжёлой духоте маленькой комнаты.
2
- Паша, что за дрянь?
Я проснулся от оглушительного визга Екатерины, моей девушки. Уткнувшись носом в подушку, я ещё долго не поднимал голову.
- Что ты орёшь опять?
- Какого чёрта тут делает это ведро с...
Ведро. Ну, как же я мог забыть. Настроение стало подниматься, я с нетерпением ждал продолжения.
- С чем, с чем? - сказал я улыбаясь и поднимая голову с помятой подушки.
- С волосами... - прошептала Катя.
- Это всего лишь ведро с ТВОИМИ волосами, чего тут удивляться.
Я специально заострил внимание на слове "Твоими", чтобы моя любимая не подумала, будто я их насобирал на помойке или где-то купил. Такое вполне могло прийти в её маленькую, миленькую пустую головку. И, боже, Катенька была удивлена! Нет! Она была в диком ужасе, когда та самая правильная мысль, которую мы называем "озарением" вместе с дуновением ветра влетела ей в голову. Она с ужасом пялилась на свои опавшие части в ведре и, без того небольшой, её словарный запас потускнел, как перегоревшая лампочка.
- Это всё мои? - выдавила она из себя последние капли.
- Нет, я подкинул туда немного с моей задницы. Конечно, твои, милая.
- Хватит язвить, Паша. Только и делаешь, что язвишь всем подряд. Надоело. Угомонись.
Привычное общение со мной и порция негатива начали возвращать мою девушку к жизни, а мне этого так не хотелось. Видеть, что она может испытывать хоть какие-то чувства, очень приятно. Глядишь, и сексом запахнет сегодня, подумал я и сказал, садясь на кровати:
- Полдня их собирал, выхватил пару раз люлей от хозяйки за то, что в ванной всё забросано твоими волосами. Думаю, мои мучения стоят того, чтобы ты увидела ЭТО.
Катя тоже уселась на кровати, не отрывая взгляда от ведра. Рукой она держалась за голову. Теперь я заметил, что копна на её голове изрядно потускнела. Большим удивлением, которое я всё-таки скрыл, было то, что волос в ведре было катастрофически больше, чем могло опасть с головы Кати. В противном случае, я бы сейчас говорил с Толкиеновским Голлумом.
- Паша... Так много.
- Я тебе говорил об этом уже давно, что...
- Что мои волосы выпадают. Знаю! - рявкнула она и посмотрела на меня, - но так много... Этого не может быть.
- Факты в ведре, - улыбнулся я и понял, что война за секс сегодня проиграна.
Катя покраснела и вскочила на ноги.
- Что ты улыбаешься? По-твоему, это весело. Весело, остаться без волос в мои двадцать шесть? Думаешь это весело?!
- Если будешь кричать, то невесело будет выезжать с вещами на улицу. Успокойся!
Она снова присела на край кровати и снова провела рукой по оставшимся волосам, которых, кстати, оставалось ещё достаточно. "С твоим запасом можно ещё ходить весёлой недели две" - хотел я сказать, но промолчал. Растерянное лицо Кати меня остановило. Мне стало даже жалко её. Какой бы стервой она не была, я держал под сердцем громадные чувства к ней. И, теперь, глядя в это усталое, красивое лицо, я снова поверил, что живу не с гранитным изваянием женщины, а с живым человеком.
- Извини, Катюш, я выкину их.
В ответ она шмыгнула носом.
- Я скоро стану лысой... - и разревелась.
Ну, вот это совсем чудно, подумал я и встал. Навыков поглаживания по плечу и эффекта "поплачь, - станет легче" во мне не было, моя душа - это демоверсия доброго человека, все функции которой сводятся к весёлым шуткам и лёгкой жалости в редкие моменты. Я решил выкинуть всё, что насобирал за утро. Взявшись за ведро, меня удивило два факта: волос было уже больше половины ёмкости, второй - если пришла Катя, то я проспал почти сутки. Факт номер раз - странный. Факт номер два - странный. Огромные перемены в жизни, подумал я и вышел из комнаты, оставив хлюпать за спиной Катю.
3
И даже секс был в этот день. Я был на высоте. Высота эта заключалась не в том, что Паше удалось четыре раза удовлетворить свою женщину и даже не в том, что Паша удостоился комплимента по окончании действа: "Я тебя люблю, ты - лучший". А в том, как я провернул эту операцию к склонению моей фригидной самки в сторону секса, простите за грубость.
Держа в руке злополучное ведро, из-за которого у меня и случилась незабываемая ночь, я обогнул дом и приблизился к воняющей помойке. В этот раз пришлось отгонять только ворон, стаями кружившихся вокруг мусорных баков. Бомжей отгонять не пришлось. Подойдя ближе, я опрокинул волосатое содержимое и, о ужас, огромный комок прилип ко дну. Что за, - подумал я и постучал по дну ведра. Волосы медленно, скользя, упали в мусорный бак вместе с какой-то слизью. Зрелище было, мягко говоря, неприятным. Запахи из ведра доносились такие же. Я не помнил, чтобы какая-то жидкость попадала в ёмкость с волосами, и посмотрел в него. На дне остались светло коричневые разводы, известно что напоминающие, издающие такой ужасный запах, что мой нос резко отвернул голову в сторону, а рвотные позывы в животе стали чем-то осязаемым. Недолго думая, я запулил ведро в мусорный бак. Уже собираясь уходить, я вновь глянул на копну волос, что покоились на коробке из-под "Доширака". И обомлел. Волосы лежали не спутанным пучком, а ровной линией, будто их кто-то расчесал. Но в ступор и ужас меня ввело другое - на одном конце копны, к каждому волосику (на первый взгляд) были прикреплены маленькие светло-коричневые точки, образующие одну массу того же цвета. Масса эта была скользкой и влажной на вид. И уже непонятно от помойки ли шёл такой запах, или от этой коричневой массы. Закрыв нос рукой, я пошёл прочь, раздавая на ходу клятвы о том, что мусор теперь буду выкидывать прямо через окно.
Кате я ничего не сказал. Хватило зрелища, которое я увидел, войдя в комнату. Моя любимая, таяла лицом, уткнувшись в ладони. Жалость возросла до отметки "максимум", и я присел с ней рядом, робко обняв за плечо. Никаких действий с её стороны не последовало и, я посчитал, что первая миссия была complete. Вторая миссия complete сама по себе - Катя склонила голову мне на плечо, в нос ударил запах шалфея. Приятно. Моя вторая рука дотронулась до, всё ещё, пышных волос и опять не последовало никаких противодействий. Иногда лёгкие прикосновения возбуждают больше, чем голое тело, обвитое вокруг тебя. Да. Тогда-то всё и произошло. Словно фотовспышки в мозгу пьяного человека. Щёлчок, - и мы без одежды. Ещё щелчок, - и я уже наслаждаюсь запахом нежной кожи и... Но, эти подробности я опущу.
Мы уснули в крепких объятиях друг друга. А проснулся я один, от жуткого крика Кати. Ничего не понимая, думая, что мою девочку кто-то убивает или, ещё хуже,что за ночь она всё-таки превратилась в Голлума (тут я уже сам думал прыгать в окно и бежать), я вскочил с кровати и остался стоять на полу в чём и был - в небритости моих гениталий. Катя замерла голая посреди комнаты, с ужасом смотря на окно и указывая на него своим пальчиком.
Иногда страх приходит постепенно, нарастая всё больше и больше. Иногда огромная масса страха, раскалённая до красна, падает на тебя в одно мгновение. В то утро мне посчастливилось в полной мере испытать на себе вариант номер два. За окном, прямо на карнизе стояло ведро, из которого торчала огромная копна волос.
4
Катя ушла в больницу разбитая и испуганная, как хрустальная ваза и как маленький котёнок. Увидев ведро, я в сердцах пнул его ногой, и оно с глухим стуком упало на мокрый от дождя асфальт. Волосы рассыпались, словно одна большая тёмная лужа грязного мазута. Всё оставшееся утро я успокаивал свою любимую, которую трясло, а её носик то и дело всхлипывал. Она сразу собрала оставшиеся волосы в длинный конский пучок, чтобы они не опадали по всему дому, и быстро выбежала из квартиры, лишь почистив зубы. Я снова остался один, ночной дождь уже потянул свои пары к небу, испаряясь под поднявшимся ярким солнцем. День грозил быть душным, а помойка грозилась вонять с ещё большей страшной силой.
Проводив Катю, я вошёл в комнату и посмотрел на окно, где ещё каких-то тридцать минут назад стояло проклятое ведро. Какими неведомыми силами меня снова потянуло взглянуть на него? Я не знаю и знать не хочу, но спустя секунду, моё тело уже свесилось через подоконник, а глаза устремили свой взор на мокрый асфальт. Ведро валялось в стороне, копна волос вылетела из них и теперь я смог чётко разглядеть, что с одного конца этой адской шевелюры выросло подобие шарика, на который и были словно примотаны каждый из многочисленных волосков. Приглядевшись получше, я понял, что волоски теперь росли из этого маленького шарика, цвета гниющей плоти. Копна стала заметно больше. Я закрыл глаза, отцепился от подоконника и вернулся в комнату, смотря прямо на окно. "Что с тобой не так?" - спросил кто-то внутри меня, и этот вопрос предназначался сразу всему, что за эти два дня было "не так". Я поспешил закрыть окно и автоматическими движениями стал заправлять постель.
А вот дальнейшие события, которые произошли в этот злополучный день, я помню смутно. Нечто неизведанное, как бермудский треугольник, как атлантида в глубинах океана, как то необыкновенное и загадочное, что примерещится нам в тумане, всегда потом остаётся поводом для домыслов, - было ли на самом деле или пригрезилось?
Сделав все обычные дела по моей маленькой конуре, я достал ноутбук и собрался поработать. Да, да, моя работа была завидна для любого комнатного задрота. Я держал страничку в одной из социальных сетей. Больше шести миллионов мальчиков и девочек по всей необъятной стране (по стране, где даже медведи, держа в одной лапе бутылку водки, а в другой балалайку, сидят в интернете) было подписано на мою страницу. Сама по себе страничка дохода не приносила, но вот реклама, которую размещали на ней мои коллеги, постоянно пополняла мой электронный кошелёк. Так я и жил. Так я зарабатывал, чем и бесконечно злил свою любимую. Она упрямо не понимала и дико злилась, как можно зарабатывать неплохие деньги, "развлекаясь в социальных сетях". Цитату привёл дословно. Ещё бы не злиться! Ломать спину с утра до утра, не зная такого слова, как "отдых" и получать почти вдвое меньше меня. Да я бы со стыда утопился бы в унитазе! Но Кате сказать об этом, конечно же, не мог. Вот и приходилось слушать и улыбаться . Но вернёмся к событиям того туманного дня, который помнится мне, будто увиденный через муть аквариумного стекла.
Только я раскрыл ноутбук, как услышал грохот в комнате Людмилы Петровны. Я даже вздрогнул от неожиданности потому, что и думать забыл, про нашу квартирантку: полдня с её фронтов не было слышно ни звука. А теперь я отчётливо слышал, как одна за другой в её комнате бились, сначала ваза, потом какие-то хрупкие столовые приборы. Совсем сдурела, подумал я, но ноутбук закрыл и вышел в коридор, послушать, что же такое взбесило и вывело из равновесия нашего усатого тирана. Если она выйдет, сделаю вид, будто направился в туалет, подумал я и с улыбкой на лице стал прислушиваться к звукам, доносившимся из-за закрытой двери. Какое-то время наступила тишина, потом раздался сдавленный крик, будто человек из последних сил стянутого горла пытался кричать. Вопль был таким неожиданным, что, резко похолодев всем телом и душой, я подпрыгнул на месте.
- Помоги! - уже хрипела Людмила Петровна, видимо, обращаясь напрямую ко мне, в какой-то судорожной агонии, забыв моё имя.
Недолго думая, я буквально вынес кулаком закрытую на щеколду дверь хозяйки квартиры, и, оказавшись в её комнате, увидел уж через чур сюрреалистичную картину. Сначала мне показалось, что Людмила Петровна, словно Дэвид Копперфильд сама собой зависла в воздухе. Но потом я всё понял. Вокруг её шеи были обмотаны спутанные, чёрные волосы, длинная их копна уходила вверх, под потолок, перебрасывалась через трубу, и такой же блестящей, натянутой словно струна, полоской устремлялась вниз к окну и скрывалась за подоконником. Таким образом, Любовь Петровна была словно подвешена на верёвке из волос, которые стягивали её шею. Лицо женщины, и без того не сильно прекрасное, напоминало смятую бумажную маску, - до того оно перекосилось. Кожа побагровела, глаза закатились - зрачков не было видно, а вены на шее так набухли, что, кажется, ещё чуть-чуть и лопнут, забрызгая тёмной кровью всю квартиру, прекратив мучения хозяйки. Она болтала ногами, билась в истерике, руками ухватившись за тёмную копну волос. На полу были разбросаны осколки разбитой вазы и тарелок. Поодаль, на старом ковре валялись три розы, бутоны которых блестели от капелек воды. Я навсегда запомнил эту картину и теперь вспоминаю её, словно увидел всё это в прокуренном кабаке, сквозь сигаретную дымку.
Увидев всё это, я и сделал только, что вскрикнул и остался стоять на месте, в глубочайшем приступе шока. Какой бы сволочью не была Людмила Петровна, даже она не заслуживала такой смерти. Смерти от чего? От непонятно откуда оживших волос, в которые словно сам дьявол вселился. Потом, будто кто-то щёлкнул пальцами у меня над ухом, я встрепенулся и заметался по комнате, ещё не зная, что именно мне нужно. Благо, на прикроватном столике стояла небольшая металлическая коробочка со всяким хламом, в ней я увидел огромные портные ножницы и, выхватив их, зачем-то прижал к груди, снова широко-раскрытыми глазами наблюдая жуткую и в то же время странную картину. Потом второй щелчок, и я помню, как не без страха очутился около бьющегося в конвульсиях тела, подвешенного над землёй. Хрипы становились всё тише, взмахи ногами не такими мощными, как секунд десять назад, а из носа, я заметил, стекала алая струйка крови. Я стоял около натянутой копны волос и буквально чувствовал, как вибрирует воздух, соприкасаясь со зловещими волосами.
Медлить было нельзя. Зажмурив глаза, я вонзился ножницами в широкую струну волос, но всё, что я почувствовал, как мои руки завибрировали, а ножницы непонятной силой завернуло в дугу, а потом и вовсе сломало их напополам. Я сделал шаг назад и заорал в отчаянье, прижался к холодной стене, попутно наступив на осколок вазы и порезав ногу. Снова находясь в ступоре и сковавшем меня страхе, я наблюдал последние секунды жизни Людмилы Петровны. Сначала вдоль тела повисла одна её рука, потом вторая, ещё немного покачавшись и замерев. Глаза так и остались быть широко раскрытыми, смотря куда-то сквозь все стены дома в одинокую и холодную вечность. Рот был приоткрыт и уже совсем не хрипел. Теперь Людмила Петровна не выдавливала сквозь отверстия лица воздух. Воздуха в лёгких не осталось и никогда уже не будет в них. Тёмно-красное лицо, струйка крови под носом и вылезшие из орбит глаза, - вот мои последние воспоминания о нашей квартирантке, Людмиле Петровне. Я бы так и остался, прилипнув у стене, смотреть на эту ужасную картину. Но волосы, сделав своё дело, ослабили хватку, и грузное тело женщины с диким грохотом упало на пол, свернувшись в какой-то неестественно позе. Этот шум разбудил меня и сорвал оковы с моих конечностей. Я лишь на секунду посмотрел на повисшую через трубу копну волос, подёргиваемую ветром, будто и не было в ней той вибрирующей грубой силы, а потом в панике кинулся бежать из этого проклятого дома, даже позабыв нацепить кроссовки.
5
Я вышиб дверь подъезда, снеся кого-то на своём гордом пути самурая-беглеца. Я пересёк улицу, проделав своим телом новый пешеходный переход в том месте, где его никогда не существовало. Мне вторили нервные сигналы машин и ругательства недовольных моим поступком водителей. Я пробежал по бульвару, свернул за угол и попал в какой-то ветхий, вонючий двор; один из тех, где помойки и пьяные застолья прекрасно дружат с постиранным бельём, чумазыми детьми и старой развалюхой, поднимающей клубы тёмного, больного дыма прямо в атмосферу. Миновав все эти прелести, я снова оказался на какой-то небольшой улочке. Пропахав и через неё, я споткнулся о бордюр и с визгом (мне несвойственным) полетел в какую-то яму. Два раза кувыркнувшись и неудачно приземлившись на подогнутую ногу, я, тяжело дыша ,смотрел на голубое небо, с приколотыми к нему лоскутами светло-серых облаков. Сердце моё колотилось, то ли от усталости, то ли от страха, я ещё тогда не понял. Где-то в районе пяток чувствовалась сырость и прохлада. "В носках бежал... Красавчик!" - подумалось мне. Чувства приходили постепенно, одно за другим, как детишки на день рождения своего толстого нелюбимого одноклассника, чтобы пожрать вкусного тортика. Последним на этот праздник "съедения самого себя" пришло осознание. Вместе с болью в вывихнутой ноге, оно пришло последним и набросилось на меня, как самый прожорливый из гостей, съедая самое вкусное - белковый крем с верхушек моего творожного мозга.
Я думал, лёжа на сырой траве в каком-то овраге под дорогой, что Любовь Петровна мертва, что её задушила копна взбесившихся оживших волос. В этот момент меня чуть не схватила дикая истерика от осознания всей абсурдности и невероятности ситуации. Я хотел смеяться до потери сознания, но какой-то ком, подступивший к горлу, не давал мне этого сделать. Вместо того, я лишь дёргался в каком-то приступе, подступившей вдруг тошноты и безудержного веселья. Потом я подумал о том, что покинул открытую настежь квартиру, что всё: документы, телефон, всё осталось там. Что завтра к утру домой вернётся Катя и будет... Что же тогда будет? Встретит ли её живая и здоровая Любовь Петровна, нервно рассказывая моей девушке, что её любимый "поехал крышей" и убежал из дому, или она тоже станет жертвой удушающих волос? От последней мысли у меня кожа покрылась маленькими точками, именуемыми в народе "мурашками". Все эти душевные скитания привели меня к ужасающей мысли: нужно вернуться и посмотреть. На крайний случай забрать всё необходимое, позвонить Кате и потом в полицию.
- Алло, здравствуйте, я хочу сообщить об убийстве у меня дома. Мою соседку задушили волосы. Что? Нет, я не писаюсь в штаны по ночам и у меня не стекает слюна вдоль подбородка. Это - истинная правда.
Да уж, после такого признания, вместо полиции по моему адресу приедут белые воины и, поработив моё немногочисленное войско, увезут полководца в ближайшее отделение психиатрии. Но вернуться надо. Эта мысль не покидала мой рассудок, меня тянуло туда, тянуло убедиться, что я не больной и что Людмила Петровна лежит задушенная посреди своей комнаты. Потом я что-нибудь придумаю, потом я выкручусь. Но строить бесплотные догадки - самое мучительное.
На том и порешив сам с собою, я с трудом встал и направился обратно к дому. В ужасе и страхе я убежал метров на пятьсот от дома до оврага, где споткнулся и упал. Теперь идти было гораздо тяжелее. Давала знать о себе повреждённая нога и босые ноги. Люди то и дело оборачивались на меня, считая, видимо, за пьянчугу, который, после бурной ночи, проспав в канаве, возвращается домой. Миновав все дворики и, даже, перейдя дорогу в положенном месте, я остановился за небольшим деревом, смотря на дверь подъезда моего дома. Всё было относительно тихо, не считая парочки собак, да какой-то бабульки с сумкой в руках. Оглянувшись, сам не зная зачем, по сторонам, я направился к подъезду. Немеющей рукой открыл дверь и медленно поднялся на четвёртый этаж. Дверь в квартиру была не заперта. Я смотрел на неё, чувствуя, как прежние оковы снова огибают мои конечности, как сердце обволакивает пеленой страха и заставляет его биться сильнее, биться так, будто маленьким молоточком кто-то невидимый наносил быстрые удары по грудной клетке оттуда, изнутри. Я похолодел всем телом, покрылся испариной пота, облизнул вдруг пересохшие губы и сглотнул слюну. Со стороны, теперь, меня можно было принять за наркомана, уничтожаемого очередной ломкой.
Именно теперь, я почувствовал, что никогда в жизни не смогу зайти в эту квартиру. Внутренняя блокировка мне не даст. Это как фобия. Если в мире где-то и есть квартирофобия, то я ею заболел. Причём симптомы проявляются именно на конкретную квартиру.
Так я стоял и трясся, покрываясь литрами пота, а потом... А потом дверь квартиры распахнулась. Ожидая увидеть всё, что угодно (Любовь Петровну, Катю, Волосяного монстра), я в какой-то душевной коме молча сделал шаг назад и вцепился рукой в перила так, что те рисковали быть вырваны с корнём. Но из квартиры появился тот, кого я, в принципе, ожидать мог, но совсем позабыл о его существовании.
На меня пялился наш участковый. Старший лейтенант Тычков. Собственной персоной.
6
Я сидел в душном кабинетике Тычкова, скрестив руки и уставившись в пол. Участковый курил, смотря в окно, изредка бросая на меня нервный взгляд, отрывисто задавал ну уж совсем, как по мне, глупые вопросы.
- Ничерта не понимаю, Павел, - гнусавил он, - ты мне расскажешь всё, как было? Дело-то нешутошное.
Как все сговорились, подумал я, где вы были, когда в школе преподавали русский язык и грамматику. Я молчал.
- Так и будешь молчать? Я позвоню в отдел полиции, пусть они с тобой разбираются. Ну? Будешь говорить? - он повысил голос, а пепел с его сигареты упал на пол.
Что я ему скажу, - вертелось в голове, - что женщину задушили волосы, вдруг ожившие и начавшие расти, как кусок сдобы? Всё то время, что мы провели вместе с Тычковым, после нашей неожиданной встречи в подъезде, я молчал. Я молчал, когда он голосом чикагского шерифа сообщил мне, что нужно пройти в участок. Я молчал всю дорогу до отделения, когда старший лейтенант гордой поступью вёл меня через две улицы, будто он героически задержал давно разыскиваемого преступника. Я молчал и сейчас, вот уже пятнадцать минут сидя молча в его кабинете, выламывая себе пальцы и слушая гнусавые уговоры рассказать всё как было. Я вертел в голове различные истории. Такие истории, чтобы и казались правдой, но хоть как-то походили на реальность. Но ничего не приходило в голову. Перед глазами всё время вставало багровое лицо Любовь Петровны и натянутые через трубу волосы. Умопомрачительная реальность, ничего не скажешь.
Тычков был до одури туп, до фанатизма болел своей карьерой, которая продвигалась на должности участкового со скоростью черепахи под дозой морфия. Он был маленький, черноволосый толстячок, с такими же маленькими глазками, в которых была абсолютная пустота. Пустота, в которой плескались две чаши весов; на одной из них громоздились не вылизанные волосатые зады полковников, а на другой уголовный кодекс, с вырванными кое-где страницами. Душа Тычкова - это один чёрный сгусток зависти и злости, желания ловить государственных преступников. Желания, которое было раздавлено мелкими кражами сигарет в ларьке и спящими бомжами на улице. Такова должность участкового, думал я. Если Фемида - это закон, то участковый - это ноготь на её ноге. За такие мысли я буду заплёван миллионами участковых по всей стране, но тогда я судил лишь по одному Тычкову, - не самому лучшему представителю данной профессии.
- Паша... - он назидательно посмотрел на меня, туша окурок о банку из-под кофе, которая служила ему пепельницей, - в квартире обнаружен труп немолодой женщины, соседи слышали крики и звуки борьбы в её комнате. Потом многие видели, как ты выбегаешь из квартиры в состоянии, близкому к панике. Потом соседи вызывают меня, я обнаруживаю пустую квартиру и труп, в комнате бардак и никого. Из всего этого я делаю вывод, что последней живую Любовь Петровну видел именно ты. Понимаешь? Все улики против тебя...
Мне было почему-то наплевать на все его хиленькие умозаключения. Всё это я прекрасно понимал. Но как-то не хотелось оказаться в тюрьме из-за кучки человеческой ДНК, убивающей толстеньких домохозяек.
- На месте уже работают криминалисты и полиция. Они установят причину смерти и найдут нужные улики; я в этом не сомневаюсь, - жужжал над головой Тычков, бродя туда-сюда по своему прокуренному кабинету, - если ты во всём сознаешься и расскажешь, как всё было, то срок скостят. А главное зачем? Зачем нужно было убивать беззащитную женщину, объясни?
Этот жук уже всё решил для себя, подумал я, переубеждать его бесполезно. В своей маленькой, черноволосой головке, в этих вечных грёзах и мечтах, он уже напяливает на свою грудь стопудовую медаль "За отвагу". С ним было не о чем разговаривать. Я решил действовать осторожно и медленно.
- Криминалисты и полиция там, значит?
- И что с того?
- Я хочу признаться во всём им, товарищ участковый, - улыбнулся я, зная, как сейчас припечёт у него в пятой точке.
Тычков заморгал и начал заикаться. Всё пошло не по его безупречному плану.
- По-подождите, Павел. Я... я не могу Вас туда отвести прямо сейчас, Вы... Вы задержаны. Я... я Вас задержал, поэтому...
- Поэтому, как участкового нашего района я считаю Вас лгуном и коррумпированным засранцем! - как приятно было видеть Тычкова, который на глазах позеленел и уменьшился в размерах.
- Что... Что? Вы оскорбили должностное лицо!
- Можешь добавить это к моему сроку. Я ничего тебе не собираюсь говорить, я признаюсь только полицейским. Тем, кто будет расследовать моё дело. А если нет, если ты не доставишь меня к ним прямо сейчас, я разобью твою мелкую рожу и убегу отсюда. Мне это будет очень легко. Видал, как я задушил ту бабку, а?
Бедный участковый побледнел и кроме нечленораздельных звуков, я больше ничего от него не слышал. Его крысиная душонка сжалась вместе с телом, а само тело не имело понятия, что делать в таких ситуациях. Руки бесцельно шарили по столу, а маленькая головка то поднимала на меня свои чёрненькие глазки, то тряслась, словно у сломанной марионетки.
- Ну же, лейтенант! Будет тебе честь и слава. Только отведи меня на мою квартиру к полицейским. Я им во всё признаюсь. Ну, хочешь, закуй меня в наручники, если не доверяешь. Смелее, Тычков! - я улыбнулся и протянул руки к участковому, давая понять, что готов повиноваться и не сделаю ему ничего, если он поступит так, как я сказал.
Что-то треснуло в его полицейской головке, и он, плюнув прямо на пол (уж не знаю, чем был продиктован этот жест), достал из кармана браслеты и очень ловко застегнул мне их за спиной. Потом позвал подмогу в лице потного борова, какого-то старшего сержанта из дежурки, и я под этим скудным конвоем отправился на свою квартиру.
Особого плана у меня не было, если честно. Я просто тянул время. Благо, этот театр уродов мне помог. Я хотел добраться до квартиры, а уже там действовать по ситуации. Но ситуация оказалась совсем скверной...
7
Обратно до квартиры, которая уже стала каким-то отдельным миром для меня, мы гордо шествовали по улице, обращая на себя взгляды десятков прохожих. Я и мой скудный конвой выглядели до смеха убого. Начнём с того, что на мне до сих пор не было обуви, и я шлёпал по высохшему от ночного дождя асфальту сырыми носками. Мне даже нравилась эта абсурдная картина и, подкреплённый пережитым, я воспринимал всё, как дурной сон, или же дешёвый фильм ужасов. Дурость, что всю жизнь сидела во мне, теперь диктовала отдельные правила, которым пришлось подчиняться всем. Я улыбался и подмигивал прохожим, иной раз, шагая, выкидывал ногу вперёд больше, чем нужно. Пережитые ужасы что-то сломали во мне, потопили последний корабль благоразумия и теперь этот мир казался мне не более, чем театральным действием, в котором каждый кадр был, как зрелище, как шоу.
Тычкову и его коллеге совсем не нравилось моё поведение. И если второй, в полном неведении, что происходит, лишь сердито подталкивал меня, держа за локоть, то старший лейтенант трясся всем телом, потея, то и дело мямля: "Прекратите, хватит комедии. Это не смешно. Хватит, Павел".
Так мы и шли все эти пятьсот метров. Я - босой, с застёгнутыми за спиной руками и мои верные друзья-конвоиры. На небе светило солнышко, яркая летняя листва искрилась на деревьях, а где-то впереди нас ждали криминалисты, уже, наверное, пакующие в пакет холодное тело Любовь Петровны.
- Приготовься, Паша - сказал мне Тычков у самой квартиры, - теперь ты не отвертишься и получишь то, что заслужил.
Его маленькое противное лицо выдавило какое-то подобие улыбки. Но всё тело дрожало от гнева, его помощник всё так же молча стоял в стороне и пялился на приоткрытую дверь.
- Чой-та там тихо, - прошептал он. Голос дежурного полицейского амбала был похож на звук басовой трубы, в которую чихнул начинающий музыкант.
- Чой-та там тихо? - копируя неграмотность амбала, обратился я с вызовом и усмешкой к Тычкову.
Амбал посмотрел на меня с детской обидой в глазах, и я удержался от дикого желания показать ему язык. Тычков нахмурился и, отпустив мой локоть, приблизился к двери.
- Ушли, может... Не должны.
Опять во мне начало нарастать чувство дикого ужаса, а живот словно обдало холодным арктическим ветром. Напускное геройство и дурь вмиг сошли с меня, обнажив лишь животный страх, который и был теперь мною. Я увидел, как Тычков медленно открывает дверь и засовывает свою маленькую головку в квартиру. Всё действо казалось таким медленным, что я невольно сделал несколько неуверенных шагов вперёд. Амбал стоял на месте, будто памятник. Наконец, участковый полностью отворил дверь, и я увидел до боли родимую прихожую. Даже не верилось, что всё произошедшее утром было правдой. Я сделал ещё пару неуверенных шагов и оказался прямо за спиной Тычкова, вглядываясь в квартиру поверх его плеча. В квартире стояла оглушительная тишина. Да и на всей лестничной клетке жизнь словно остановилась. Не было слышно ни голосов в соседних квартирах, ни вечно работающих "зомбоящиков". Только амбал сопел позади, со свистом выдыхая воздух из своих огромных ноздрей.
- Что-то не особо заметно, что тут кто-то работает, - прошептал я прямо в ухо Тычкову, от чего тот содрогнулся.
- Да замолчите, Павел... - прошипел на меня участковый и, собрав всю свою мелкую душонку в кулак, двинулся к закрытой двери, что вела в комнату убитой.
Путь от входной двери до места назначения занял у него около минуты. Тычков осматривал каждую щель, из которой на него могла броситься боевая мышь или комар-террорист. Перед входом в мою комнату, что находилась справа по коридору, участковый весь съёжился и пригнулся, а я подумал, что сейчас он достанет свой пистолет, висевший у него на поясе. Но всё обошлось. Он только резко выглянул из-за угла и посмотрел в мою комнату, которая так и осталась стоять открытой с того самого момента, как я в ужасе покинул квартиру. Затем двинулся дальше. Меня так и подмывало крикнуть ему, чтобы он действовал быстрее, но я боялся, что участковый испустит дух, если испугается в такой важный момент. Да и что греха таить, моя душа тоже превратилась тогда в сжатое нечто и грозилась совсем вылететь через какое-нибудь отверстие моего тела, если произойдёт что-нибудь громкое или резкое. И вот полицейский стоял в шаге от заветной цели, протягивая тоненькую ручонку к ней. Он слегка толкнул дверь и та с противным скрипом отворилась. В этот момент, я уже стоял за спиной у Тычкова и именно поэтому мы начали орать вместе.
Картина била столь же ужасная, сколь и мерзкая. Даже теперь, в самых моих ужасных снах, от которых я просыпаюсь в дикой дрожи и мокрый от холодного пота, словно слизень, я вижу ЭТО. Посреди комнаты стоял один из полицейских. Вернее, глагол "стоял" не особо подходил к его тогдашнему состоянию. Блюститель закона словно завис над полом, касаясь его только носками чёрных туфель. Его голова смотрела вверх, а руки неестественно растопырились, пальцы дрожали и шевелились, будто черви. А сам он был обмотан чёрными, как мазут, блестящими и упругими волосами. Они обвивались вокруг его ног, талии, рук и груди. А потом уходили прямо к лицу, запустив свои металлические пряди прямо в рот, ноздри и глаза. Глаза, кстати, отсутствовали, а в глазницах скрывались волосы, проникая в самый мозг бедняги. По щекам, словно слёзы, стекали струи крови, заливая чёрный китель, струясь по рукам и ногам. Если бы не копна, проникшая прямо в рот, полицейский орал бы от боли так, что стёкла потрескались, но он молчал, лишь конвульсивно дёргаясь от невыносимой боли. Волосы вцепились крепко в него, снова напоминая мне о том пульсирующем чувстве, которое я почувствовал, когда приблизился к копне, душившей Любовь Петровну. А потом, уже убегая со всех ног с этого места, я успел заметить ещё две маленькие детали, два маленьких мазка, довершающие эту живописную ужасную картину. На полу, в крови и какой-то непонятной слизи валялась голова второго полицейского. Голова с пустыми, тёмными глазницами и с застывшим в крике ртом. Тут же, в светло-красной жиже, валялись и оторванные конечности. Тела не было. В углу, чуть поодаль от того места, где я её бросил, лежала мёртвая Любовь Петровна. И, то ли это был мираж, то ли помутнение, но мне показалось, что на месте её лица была ровная, гладкая кожа. Словно какой-то художник, стёр нарисованное карандашом лицо на поседевшей голове.
8
В маленьком коридочике мы с Тычковым натолкнулись друг на друга, и я повалился на пол. Удивительно, как этот маленький человечек смог свалить меня своим лёгеньким телом. Произошло это как раз напротив моей комнаты, и я с грохотом ввалился в неё, краем глаза наблюдая, как участковый буквально вынес железную дверь и скрылся с моих глаз. Амбала не было видно и подавно.
А потом наступила тишина, нарушаемая лишь моими попытками встать; очень тяжело было это делать с застёгнутыми за спиной руками. Меня трясло от увиденного, в голове шумело, а тело словно двигалось по инерции к спасительному выходу. Ещё с минуту я полз к выходу, а потом затих, услышав, как в смертельной комнате Любовь Петровны что-то скрипнуло, потом щёлкнуло, и квартиру заполнил грохочущий звук: копна волос ослабила хватку, и мёртвое тело полицейского повалилось на пол, понял я. Понял и затих. Лишь сердце выстукивало дикую канонаду, а мозг продумывал дальнейшие действия моего тела, подгоняемый тягучим страхом. Не помню, сколько я пролежал на старом ковре в своей комнате, прислушиваясь к тишине, готовый в любую секунду услышать, как огромная копна волос тянет ко мне через всю квартиру свои тонкие щупальца. Тянет, чтобы задушить меня, выколоть мне глаза и залезть в рот, распространяясь по всему пищеводу, выворачивая наизнанку пустой желудок.
Но прошло пять минут, потом десять. Я упрямо валялся на полу, скованный липким страхом, который всё не проходил. Но тишину никто и ничто не нарушало. Уже готовый было умереть прямо тут, я поверил в высшее провидение и спасение господне. Оглядев комнату, я увидел свой телефон на прикроватной тумбочке и куртку, висевшую на крючке. В куртке был паспорт. Всё, что мне нужно, чтобы бежать с этой поганой квартиры и не быть изгоем. Да, паспорт и телефон. В современном мире этого достаточно, чтобы тебя не считали обезьяной. Я подполз к стенке, пытаясь делать всё как можно тише и вздрагивая от любого своего шороха. Затем, помогая руками, которые уже порядком затекли и ныли, я подтянул своё тело по стенке и смог усесться. Сердце теперь колотилось не только от страха, но и от дикой усталости, которая пришла вместе с этими черепашьими движениями. Я громко дышал носом, боясь раскрыть рот. Усевшись, я вновь прислушался к посторонним звукам; было тихо. Теперь осталось преодолеть последний рубеж: встать на ноги, и я, глубоко вдохнув, напряг все свои мускулы и стал подниматься по стенке. Через минуту, моё тело приобрело вертикальное положение по отношению к горизонту, а моя голова кружилась от такой нагрузки. Снова мои уши пощупали воздух. Звуки не вибрировали по нему. Двигаясь как можно тише, я схватил телефон (что в моём положении было не совсем удобно), а потом снял куртку с крючка для одежды. Снял зубами.
И вот, стою я посреди своей комнаты, с руками за спиной, с телефоном в одной из них, а в зубах у меня моя куртка. Перед моими глазами был спасительный выход: дверь в подъезд располагалась прямо напротив двери в мою комнату. Осталось сделать две вещи: снова послушать тишину на наличие в ней посторонних звуков и... как-нибудь напялить на ноги свои кроссовки. В общем, удача была и тут на моей стороне. Через некоторое время я стоял на лестничной клетке и смотрел на всё ещё незапертую дверь в свою квартиру. "Нехороший день" - подумал я и поковылял вниз, на поиски своих конвоиров с ключом от наручников. Думаю, доказательств моей невиновности у Тычкова теперь достаточно. Эта мысль заставила меня улыбнуться всё той же глупой, безумной улыбкой.
9
К моему величайшему сожалению ни Тычкова, ни его молчаливого помощника-амбала на пути к выходу из подъезда я не обнаружил. Перед самым выходом на улицу, я застыл, словно приклеенный к бетонному полу. Что же делать, - подумал я, - выйти вот так на улицу, словно связанная собака, держащая кость в зубах, я не мог никак. Эти хитрые служители закона кинули меня и убежали, подгоняемые собственными наполненными штанами. Хорошо поступили, что сказать. На секунду я представил несущегося Тычкова, с вытаращенными маленькими глазками наружу и амбала, несущегося вслед за ним. Амбал на ходу лишь басит: "Что? Почему бежим? Далеко ещё бежать?". А участковый, ничего не слыша и не видя от дикого страха прокладывает себе дорогу, сквозь "непроходимый" воздух и вонь задымлённых улиц. Так и бегут: начальник, не ведая куда, ведая, лишь, зачем и его верный пёс, не ведая ни первого, ни второго. От этой убогой картины и от ужаса произошедшего, я натужно рассмеялся. Получился какое-то глухое завывание: трудно смеяться с курткой в зубах. Но я поддался мимолётной истерии и ржал, как конь, проглатывая собственные весёлые порывы. Слюна начала катиться по подбородку, а челюсти нещадно напомнили мне о том, что не рассчитаны носить такую ношу. Потом по щеке скатилась всего одна лишь тёплая слеза, и я успокоился, осознавая, как глупо смотрюсь со стороны.
- Жбефали, уфоты, - прошелестел я, - ну и итите ф фопу!
Я с силой пнул дверь ногой и устремился навстречу летнему полуденному солнцу. Шагал я медленно, улыбаясь каждому прохожему и испытывая, при этом, невыносимую злость на всё вокруг, а прежде всего, на " чёрные волосы", которые превратили меня в убогое сумасшедшее посмешище. Я уже потерял счёт времени, скулы сводило от боли, а зубы скрипели, словно несмазанный шестерной механизм. Слёзы катились градом по лицу, сердце уже не прекращало свою бешеную канонаду, а мозг казался переваренным киселём, будто и залитым в бошку для того, чтобы она не казалась слишком лёгкой. В какой-то момент у меня закружилась голова, и я, пошатнувшись, опёрся о какое-то каменное строение, плясавшее перед глазами. Мои челюсти разжались, и куртка вылетела на землю, а рот так и остался быть открытым; лишь слюна длинной струйкой капала с подбородка.
- У меня дома убивают волосы! - крикнул я с глупой усмешкой какому-то мужичку, проходящему мимо. Тот отшатнулся и ускорил шаг, удаляясь от меня.
Какая-то парочка тыкала в меня пальцами и переговаривалась, а парень достал из кармана мобильный телефон и в нерешительности вертел его в руках. В основном, люди не хотели меня замечать и для них я сливался в каменным зданием, возле которого стоял. Мои руки беспомощно покоились за спиной, всё ещё крепко держа мобильный телефон.
- Мне нужно связаться с Катей, - пробормотал я, - она мне поверит. Любимая моя, как я тебя люблю, зайка моя! Уважаемый. Уважаемый! Прошу Вас, не проходите мимо, тут у меня в руках мобильный. Помогите случайно попавшему в беду, возьмите его и наберите кое какой номер мне! Уважаемый!
Дядька, к которому была обращена моя тирада, чуть ли не вприпрыжку удалился от меня. Я сплюнул.
- Чёртовы убогие! Тётенька, помогите вы! Позвоните... - я даже развернулся к ней задом, чтобы она могла видеть мобильник у меня в руке. Но, видимо, этот жест вызвал в её неразвращённой душе ещё большую бурю эмоций. Она убежала, что-то приговаривая на ходу.
Признаки светлого ума загорались во мне, словно искры от костра и так же быстро тухли. Я осознавал, что рано или поздно эта комедия прекратится. И прекратить её мог любой попавшийся под руку режиссёр: толпа людей, особо рдеющих за порядок на улице; алкаш, который посчитает мою выходку личным вызовом на дуэль в тупости и безрассудстве; толпа обкуренных гопников. Но тут же эти искорки гасли, и я становился безумцем, для которого существовала одна комната в этом мире и одна женщина. Комната, в которой волосы душат и рвут на части несчастных людей, и женщина, которая должна была знать об этом слишком долгом и слишком пугающем дне. Эти мысли поглощали меня, и я снова и снова кричал на проходящих мимо людей, пытаясь добиться от них помощи, надеясь, что хоть кто-то подойдёт и нажмёт кнопку вызова, приставит трубку к моему уху. А потом я просто выронил мобильный телефон из рук. Произошло это слишком неожиданно. Я в отчаянье завопил, словно напугавшаяся девушка и кинулся прямо на землю за своим драгоценным средством связи.
Боль укусила меня пониже запястья, а палец заревел громче меня. В этот же момент на моё плечо легла рука и, подняв голову, я улыбнулся трём симпатичным полицейским.
10
Сидя в полицейском УАЗике я и не знал, что отвечать на вроде чётко поставленные вопросы. Мой телефон покоился у одного из сотрудников этого чудного кортежа. У кого? Я не знал.
- Ну, так что, уважаемый, объясните Вы нам или нет, что Вы делали на улице в таком виде? - обратился ко мне лысый дядька, с гладко выбритым лицом и крепким телосложением. Его весёлые глаза бегло осматривали мой несуразный вид.
- Искал Ваших коллег и хотел позвонить своей девушке.
- Наших коллег? - повернулся ко мне пожилой прапорщик, что сидел в кабине рядом с водителем и теперь смотрел на меня сквозь решётку.
- Участковый ****го района, - уточнил я, улыбаясь ему, - он со своим помощником убежали из моей квартиры, когда увидели... увидели жестокое групповое убийство.
В тот момент я не думал ни о чём и ни о чём не беспокоился. Я был в диком безумии и в животе, на замороженной страхом почве, нарастала какая-то пустота и отрешённость. Видя эти самодовольные лица, я почувствовал нездоровую злость и теперь говорил так, чтобы посеять в их душах смятение и страх. Насчёт второго: получалось не очень, но, вот, первым блюдом я накормил их сполна.
- Да что Вы? - крепыш уставился на меня своими весёлыми глазами, - про убийство можно конкретнее?
- Извольте, - деланно склонил я голову, - сегодня утром, в квартире, где я снимаю комнату, было совершено жестокое убийство. Жертва, моя квартиросдатчица и по совместительству сожительница, была задушена. Затем, в той же квартире были убиты и разобраны на части два сотрудника полиции.
Я специально запутал свою речь. Выпалив всё это, я и сам не слишком понял смысл мною сказанного , но по лицам полицейских было видно, что слова достигли желаемого результата.
- Что ты несёшь? - прапорщик уже полностью повернулся ко мне побагровевшим лицом, - ты себя в зеркало видел? Откуда на тебе наручники?
Мда, подумал я, а пожилой полицейский-то совсем не умеет держать свои эмоции под замочком, в отличие от...
- Вась, постой, - поднял руку крепыш, - Вам не кажется, гражданин...
- Зовите меня Павел Алексеевич, - улыбнулся я, смотря то на прапорщика, то на крепыша.
- ...Павел Алексеевич, что Ваш рассказ местами, грубо говоря, имеет некоторые огроооомные провалы, - протянул он, - сейчас мы приедем в участок и со всем разберёмся. Вы меня понимаете?
- Я в совершенстве владею русским языком. Конечно, понимаю.
- Да ты посмотри на него, Коля, - снова вмешался Василий-прапорщик, - он невменяем, глаза стеклянные. Укурился, друг? Укурился, был пойман патрулём и каким-то образом сбежал. Ведь так, Паша...
- Павел Алексеевич, - поднял я вверх палец.
- А ну рот свой закрой! - заёрзал на сиденье Вася.
- Тихо, тихо, - снова заговорил Николай-крепыш, смотря своими весёлыми глазками то на меня, то на прапорщика, - сейчас приедем и со всем разберёмся. Кто убивал, кто укурился и кто, откуда сбежал. Вот уже и подъезжаем. На выход, Павел Алексеевич, идёте впереди, чтобы я Вас видел, ясно?
- Так точно, шеф!
УАЗ остановился в каком-то грязном дворе, что был огорожен со всех сторон металлическим забором. Прямо напротив машины красовалось серо-белое четырёхэтажное здание, с единственной металлической дверью посередине и с двумя флагами на крыше. По бокам этого дворика стояли такие же маленькие УАЗики с надписями "Полиция". Сзади огороженного загона располагалось небольшое КПП и старые, ржавые ворота с орлиными эмблемами. Двор был пуст, лишь сонный дежурный курил на крыльце КПП, скрестив ноги.
Меня повели через весь двор, словно злостного преступника, и я даже горько усмехнулся, вспомнив, что за весь день (наверное, единственный день в жизни) не убил ни единой мухи и ни единого бесцельно прожитого часа. Старый прапорщик постоянно косился на меня, хмурясь и отпуская едкие выражение в сторону моего внешнего вида; крепыш шёл молча, а его глаза стали, вдруг, суровыми и уж через чур наблюдательными. Только теперь, когда он откинул гражданскую куртку с плеч, я заметил, что это капитан и какое-то уважительное чувство росло всё больше к этому человеку. Мой воспалённый мозг чувствовал, что было в нём то, чего не было ни в Тычкове, ни в Ваське-прапорщике. То, за что людей самых нелюбимых профессий начинают любить и уважать.
Через пять минут я сидел в таком же душном кабинете, как и у нашего участкового (мне кажется, что где-то в секретных архивах, есть секретный план-проект, по-которому строят все эти кабинетики в казённых учреждениях) и взирал на капитана-крепыша Николая. А ещё, спустя секунд пять, мои глаза засверкали от благодарности, когда я услышал за спиной щелчок, и мои руки оказались свободны. Запястья жутко болели и чесались; я жадно раздирал на них кожу.
- Аккуратнее, Павел Алексеевич, не раздерите до крови и не занесите заразу.
Мы остались в кабинете одни с учтивым капитаном, которого я уже любил до умопомрачения; так успокаивающе он на меня действовал. Это было первое не карикатурное, а настоящее существо в моей жизни за последние несколько месяцев... С того самого момента, как я переехал в маленькую душную комнату с моей девушкой. А капитан тем делом достал из нагрудного кармана мобильный телефон и, осматривая меня с ног до головы, ждал кого-то на той стороне трубки. Да, он был не просто крепышом, - капитан был огромен. Метра два ростом, а то и больше, гладко выбритый. Глаженые, чёрные форменные брюки и туфли без единого пятнышка, хотя на улице ещё было достаточно грязно и мокро. Капитан внушал доверие и одним своим видом заставлял себя уважать.
- Алло, - сказал он, - здравствуйте, капитан Молчанов беспокоит.
"Молчанов" - с улыбкой подумал я.
- Подскажите, по нашему району сегодня поступали какие-нибудь сообщения об убийствах? - небольшая пауза, - ага, спасибо. Где? Ага... Ага, хорошо.
Молчанов сделал себе пометку в каком-то листике.
- И что? Нет... Не выходят? Давно? Ясно..., - потом он смерил меня взглядом, - а мелкие? Нет, совсем. Ясно. Спасибо, Танюша, до скорого.
Молчанов убрал телефон, снова глянул на меня, а потом, выставив указательный палец вверх, в том самом жесте, который говорит нам "Подождите-ка", снова достал телефон.
- Да, алло, привет. Молчанов. Тычкова можно? Нет? Давно ли? Ага... - капитан глянул на свои часы, продолжил, - как будет, пусть свяжется со мной, у меня тут его... кхм... друг. Ага, до скорого.
Теперь телефон перекочевал обратно в карман и, как я понял, долго уже не собирался вылезать на белый свет. Молчанов снова смотрел на меня. Я смотрел ему в лицо с вызовом, но, видимо, получалось у меня это слишком тупо, потому что капитан улыбнулся.
- Что, Павел Алексеевич, с вами не так?
- Всё так... - я теперь и впрямь говорил, как наркоман, - всё так, товарищ капитан.
Улыбка пропала. В унисон с нею моя пропала тоже. Я снова начинал валять дурака, но, в отличие от других, Молчанов это понимал. И не скрывал это.
- Рассказывайте, что было на самом деле.
Вопрос металлом прозвенел в напрягшемся воздухе. И этот вопрос походил на огромный острый крюк. Который проникал к тебе прямо в душу и сам собою вытягивал оттуда правду. Либо вырывал её с мясом. И в датчиках этого крюка-механизма я видел полную готовность, полную заряженность, а стрелки бились о красную шкалу. Молчанов уничтожал своей энергетикой.
Я начал свой рассказ, Молчанов сел напротив меня и сложил руки на груди. Я рассказал, как снял комнату, как не любил хозяйку квартиры, о её постоянных придирках и глупых претензиях. Немного задел тему наших отношений с Катей, но только в тех местах, где рассказ об двуполых отношениях не переходит в пошлость. По мере того, как реальность убегала из моего повествования, как кипящее молоко из кастрюльки, Молчанов всё пристальнее всматривался в меня, всё уже становились его глаза. Но он ни разу меня не перебил. Не перебил, даже в тот момент, когда я с дрожью в голосе говорил о смерти Любовь Петровны. Тогда я сам начал сомневаться в своих показаниях, а голос то и дело дрожал. Потом последовал рассказ о бегстве из квартиры, о встрече с Тычковым, о новых ужасных смертях и том, как я оказался на улице в идиотском виде, с закованными в наручники руками.
- Мне нужно связаться с Катей... Предупредить её. Теперь я всё рассказал. Вы первый человек, которому я рассказал это. И я не жду того, что сейчас вы вооружитесь бластером и, надев костюм "Охотников за привидениями" побежите вместе со мною убивать злостного волосяного демона. Я не жду, что Вы мне поверите, простите. Но моё состояние подошло к тому, что я уже не знаю, что и думать. Мне никто бы не поверил, но теперь стало как-то легче. Можете упрятать меня в психушку или посадить под арест, до выяснения, но, товарищ капитан...
Я сделал паузу и посмотрел прямо в его глаза.
- Если Вы туда вернётесь, даже захватив целую армию полицейских, то, либо ничего не найдёте, кроме кровавого месива, либо будете убиты...- я замолчал, боясь, что мои слова покажутся больной угрозой.
Молчанов поднял руку в уже знакомом мне жесте. Он означал, что нужно остановиться. Я повиновался.
- Вы же до сих пор живы.
Вопрос снова встал ребром, и на него нужно было как-то отвечать. Это даже не обсуждалось, было аксиомой, и в то же время породило внутри меня массу сомнений, которыми я до этого момента не задавался вовсе.
- Да... даже не знаю... - прошептал я, глядя в пол, - повезло... Вы думаете, что я вру...
Молчание. Потом заговорил капитан.
- Знаете, уважаемый Павел Алексеевич, я думаю, что человек не способен на глупую ложь, если она не оправдывает полностью его поступков. Хотя, наш мозг выкидывает различные фокусы, которые никакому иллюзионисту и не снились. Но! - он многозначительно поднял палец вверх, - но я не думаю, что Вы сумасшедший. Многие сочли бы этот блеск в ваших глазах за умственное помешательство, но я много видел дешевнобольных - в молодости судьба таки столкнула меня с медициной и психиатрией. Пошёл не по той дороге, знаете ли. Всем свойственно ошибаться. И я вижу, что Вы абсолютно нормальный. Ненормальность в ваших глазах объясняется лишь ненормальностью окружающих Вас событий.
- Так, значит, Вы мне верите?
- Я этого не говорил, - снова, как отрубил Молчанов, и я весь сжался в стуле.
- Но, - продолжал он, - я верю, что с вами произошло что-то необычное. Ваш вид и, ещё раз повторюсь, ваши глаза мне сказали об этом. Может быть... Повторяю, может быть, оно всё так, как Вы говорите и, естественно, мало кто этому поверит, и многие психиатры заинтересуются Вами. Так вот, что в ваших словах правда, а что ложь мы выясним именно с вами вместе, Павел Алексеевич. Как Вы видели, я сделал пару звонков, и ответы на той стороне трубки на один процент подтвердили ваш безумный рассказ. Действительно, было преступление. Группа выехала на место, и теперь от неё нет вестей, и телефоны сотрудников молчат. Действительно, Тычкова вместе с помощником на месте нет. В последний раз их видели, как они выходил с молодым человеком в наручниках. Всё это, так или иначе, подтверждает ваши слова. Ровно на один процент.
- Маловато, как-то. Что же делать будем? - спросил я.
Молчанов теперь смотрел в окно, барабаня пальцами по столу. Потом задумчиво сказал:
- По-хорошему, задержать Вас до выяснения обстоятельств, кинуть в обезъянник. А пока Вы там будете сидеть, смотаться с группой и экспертами на квартиру и хорошенько там поработать.
- Но по-хорошему не будет? - улыбнулся я, боясь, что капитан опять какой-нибудь своей фразой быстро прогонит эту улыбку с лица.
- Мы сделаем почти так, как я сказал, за исключением одного: Вы поедете с нами.
- Где-то я уже это видел.
- Не бойтесь. В отличие от Тычкова, - он сморщился, - я сделаю всё, как положено и мы официально отправимся на место преступления. Нас не потеряют, и всё будет как положено. Нас там будет больше, чем трое, поэтому бояться нечего.
Молчанов глянул на меня в упор, и я с трудом проглотил комок в горле.
- Я не знаю, что будет, если Вы, хоть и частично сказали правду. Честно, Павел, как бы грубо это не звучало, но я хочу, чтобы Вы врали и чтобы сели за обычное убийство. Но... Если Вы сказали правду, то...
Молчанов так и не договорил. Через десять минут мы выехали на большой ГАЗели к месту моего сегодняшнего кошмара. А я всё думал о телефоне и, улыбаясь непонятно от чего, смотрел через тонированное окно на наш солнечный маленький городок.
11
По приказу Молчанова двое сотрудников расположились за домом, прямо у окна моей квартиры. Я, капитан и ещё три человека в полицейской форме стояли в подъезде у двери моего (уже, наверное, бывшего) жилища.
Молчанов отдал мне телефон в машине, а сам начал смотреть в окно, всем своим видом показывая, что его не интересует мой дальнейший разговор с любимой. Дрожащей рукой я набрал её номер и... услышал от механического голоса, что абонент находится не в сети. Что ж, подумал я, ещё одно разочарование не сможет испортить этот похабный денёк и убрал телефон в карман, надеясь на благополучный исход нашей операции и на последующий звонок Кате. День клонился к вечеру. Было ровно четыре часа.
- Так, Женя входите со мной. Паша, - капитан резко глянул на меня, - идёшь позади нас. Сергей, останетесь у двери караулить. Александр, пройдитесь по соседям. Опросите, что слышали, кто вызвал полицию и так далее. Ну, Павел, посмотрим на ваших демонов?
Последнее его предложение показалось мне какой-то насмешкой, и я дико расстроился, ибо до сего момента думал, что Молчанов больше мне верит, чем суровой реальности. Но молча кивнул и посмотрел на приоткрытую дверь.
Капитан, не церемонясь, распахнул её, из квартиры пахнуло каким-то ужасным запахом.
- Кровь, - наморщил лоб Молчанов, - идём.
Мы осторожно, но быстрее, чем с Тычковым, минули коридор, я остался стоять возле входа в комнату Любовь Петровны, совсем не желая заглядывать в неё; готовый бежать со всех ног. В третий раз. Потом услышал протяжный свист Молчанова, и голос полицейского Жени:
- Жмуры... все жмуры... боже...
- Павел, вы должны взглянуть, - сказал Молчанов.
- Я не буду, товарищ капитан, - ответил я, вцепившись в стену.
- Как так сделали... - продолжал мямлить Женя, - товарищ капитан... Николай Петрович! Тут же тел даже нету...
- Я вижу, - услышал я голос Молчанова, - Паша!
- Слушаю, товарищ капитан? - я упрямо смотрел в пол, чувствуя, как маленькие капельки пота стекают прямо на глаза, а в животе снова леденеют кишки.
- Паша, я не вижу трупа твоей хозяйки, - за интонацией стоял знак вопроса.
- Там он, у стены должен быть...
- Паша, - грозно сказал Молчанов, - тут пусто... В смысле, куча крови, оторванные конечности, головы... Но трупа женщины нет. Даже следов нет. У какой стены?
- У противоположной от Вас.
- Нет, Паша. Там его нет. Там чисто.
Я упрямо смотрел в пол. Наступило молчание, и было слышно, как тикают часы в комнате. Вместе с ними тикало и моё сердце. Затем я молча сделал два шага вперёд и оказался за спинами полицейских, смотря на оторванные руки и ноги, на лужи крови. Теперь, когда мой мозг кипел больше обычного, эти оторванные конечности не пугали меня и не вызывали спазмов в желудке. У стены ничего не было. Абсолютно ничего; тело хозяйки исчезло.
- Оно там было - тихо сказал я.
Молчанов обернулся, а Женя вздрогнул и отошёл на шаг назад. Они не слышали, как я вошёл.
- Давайте уйдём, - я резко почувствовал животный страх и желание бежать без оглядки с этого проклятого места.
Капитан всё смотрел на меня, будто желая понять, каким образом я причастен к этой истории. Но я не был похож на огромного зелёного монстра, способного разорвать двух немаленьких полицейских и, наверное, именно это вызывало теперь недоумение у Молчанова. Его мозг силился понять, что произошло. Не появись я, на арене этого коллизея, всё списали бы на обычную "мокрушку" и, после нескольких месяцев расследования, закрыли бы дело. Но некий Паша утверждает, что людей в этой квартире убило нечто волосатое и чёрное, и именно это вводило товарища капитана в состояние близкое к глубокому непониманию всего происходящего. Так думал я, а мой мозг сгибался под напором взгляда лысого полицейского.
- Женя, организуй тут уборку и вызови судмедэкспертов и следователей. Пусть всё проверят в этом доме и вокруг него. Остаётесь с Саней тут до окончания всего действа. Ребят под окнами я сниму. А Вы, - он повернулся ко мне, - едем со мной.
Когда дверь квартиры закрылась за спиной, я почувствовал облегчение, будто зло только и существовало там, в жилище. Мы с Молчановым стояли на лестничной клетке, а он подкуривал сигарету. Потом выдохнул голубые клубы дыма вверх и задумчиво поглядел в сторону. Я нетерпеливо переступал с ноги на ногу, боясь открыть рот. Только теперь мне стало страшно за того полицейского, Женю, оставшегося в квартире. И теперь я слушал нарастающую тишину, в любой момент готовый услышать отчаянный крик молодого полицейского.
- Не знаю, Павел - нарушил молчание капитан, - как ко всему этому причастны Вы. С одной стороны, я верю Вам, что убийство совершено чем-то неизвестным, что Вы - чист. С другой стороны, мне очень тяжело поверить вашему рассказу о странных волосах, убивающих направо и налево в этой самой квартире. Что думаете делать?
Вопрос был неожиданным. Господи, да откуда я знаю!
- Не знаю... - покачал я головой, - верьте или не верьте, товарищ капитан, а я видел всё это собственными глазами. И на моём месте любой бы свихнулся. Я испытал столько ужаса, как в штаны не наложил - загадка. А теперь чувствую дикую пустоту в себе, будто всё, что нужно было посмотреть в жизни, я уже посмотрел и хоть сейчас ложись и помирай.
- Поезжай к родителям... - выпустив очередные клубы дыма, сказал Молчанов.
- Нет у меня их, - махнул я рукой, - с двух лет без мамки и папки, под предводительством дядьки, который дождался моего совершеннолетия и помер от сердечного приступа. Будто выполнил свой долг, вырастил меня и решил, что mission complete.
- Не завидую... Сожалею.
- Да ничего... Никогда не испытывал жалости к самому себе. Чем меньше с нами возятся в детстве, тем сильнее мы становимся, доходя до некоторых догматов собственным серым веществом.
Молчанов улыбнулся.
- В чём-то прав.
- Мы чего-то ждём? - спросил я, снова глянув на дверь. Даже нахождение с нею рядом меня приводило в жуткий дискомфорт.
- Да, сейчас, Санька...
Его прервал телефон, затренькавший мелодией группы AC/DC.
- Молчанов, - прижал трубку к уху капитан, - да ты что? Еду уже. Что? Ни в коем случае! Никуда. Ждать меня!
Он положил трубку в нагрудный карман рубахи и быстро пустился бежать по лестнице, кинув мне через плечо:
- Иди за мной, Павел.
Я бездумно подчинился, лишь спросив:
- Куда опять бежим?
- Тычков объявился. Скорее!
12
Этот день мне определённо стал казаться какой-то насмешкой Господа надо мной и всеми, кто меня окружал. Казалось, ничего вокруг не существовало. Только квартира и полицейский участок, соединённые одной нитью. Только они были реальными, а всё вокруг плавало в каком-то тумане, словно галограмма, словно декорации, сотканные из тумана.
Мы снова направлялись в участок на старом УАЗике. Напротив меня сидел Молчанов, который казался мне теперь знаменитым сыщиком, идущим по следу. Правда, след был тусклым, нечётким и призрачным. Я снова набрал номер Кати и снова услышал, что абонент недоступен. На предложение компьютера оставить голосовое сообщение после сигнала я ответил жёстким, матерным отказом. Хоть и мысленно.
Дико болела голова. Но доставать капитана своими жалобами я был не намерен и, стиснув руками голову, закрыл глаза и начал слушать шум под собственной черепной коробкой. Был вечер, и духота достигла своего пика. В старой полицейской машине воняло бензином; от дырявых русских дорог, джип бросало из стороны в сторону. Я почувствовал, как тошнота подступает к горлу. Сил терпеть не было. Нужно было сказать Молчанову, чтобы остановили машину. Я поднял голову и тут же замер. Никакого капитана не было. Напротив меня расположилось тело Любовь Петровны. Вместо лица у неё было пустое бело пятно из кожи, на голове отсутствовали волосы. Подобие женщины тянуло ко мне свои бледные руки, испещрённые синими венами. Теперь мои голосовые связки издали непонятный звук, похожий на протяжное "ААА", а сам я кинулся к задней двери автомобиля и вышиб её одним ударом. Потом моё тело почувствовало болезненный удар об асфальт; УАЗ поехал дальше и скрылся в пустоте. Я лежал на сухой дороге, уткнувшись лицом в ладони, издавая протяжный вой, чувствуя беспомощность перед потусторонним, нереальным миром. В тот момент я, как маленький мальчик, ждал, когда сильная рука взрослого дяди возьмёт меня за плечо, а над головой раздастся громкий уверенный голос.
- Эй, мистер мокрые штаны, вставай! Всё, что ты себе тут надумал, ничего этого нет! Собери свои маленькие мужские яички в кулак и шагай домой, там Катя уже заждалась и готовит тебе отличное жаркое. Ну-ка, малец, утри сопли и вперёд в нормальную обыкновенную жизнь, где дом по вечерам пахнет жареным луком, а тело любимой горячо и упруго. Встань! ВСТАНЬ!
Последнее слово прозвучало в моей голове так громко, что материализовалось и словно эхом разнеслось над моей головой. Я резко отнял заплаканное лицо от ладоней и увидел, что лежу на пустой дороге, в пустом городе. Надо мною плыло серое, однотонное небо; тёмные тени ложились на небольшие трёхэтажные каменные дома. Эти строения были совершенно одинаковыми и выстроились в ряд вдоль всей дороги, утопая за горизонтом в сером, холодном тумане. Кое-где виднелись вывески магазинов. Но, странное дело, надписей на них я не мог разобрать, хотя некоторые из них находились в пяти - десяти метрах от меня. Растительности не было вовсе. Но была тишина. Та самая громкая тишина, которая съедает твой мозг. Воздух вибрировал, я ощущал его движение всеми участками своего тела. Воздух был тёплый. Я встал. Далось это с огромным трудом, потому что невидимая тяжёлая вязкая масса нездорового воздуха давила на меня.
Я словно находился в замкнутом со всех концов сосуде. Не было ни ветра, ни звука, не было жизни, которая бы просачивалась в этот сосуд вместе с ветром, через какое-нибудь отверстие. Было только серое небо, густой, грязный туман и дома, выкарабкавшиеся из земли, словно древние каменные титаны.
Я открыл рот и попробовал сказать что-нибудь, но вместо звука, почувствовал, как воздух ещё больше завибрировал. Казалось, что любое движение, любой вдох и выдох нарушают целостность этого закупоренного пространства. Словно углекислый газ, выделяемый моими лёгкими, превышал лимит наполняемости этого пространства, от чего будто само небо напряглось, сдерживая хрупкие стенки этого сосудика.
Двигаться было тоже тяжело; я вяз в густом воздухе. Движения были медленными. Мне приходилось, будто сквозь воду, продираться через густоту пространства. Я развёл руками и увидел, как справа и слева в ста метрах от меня, пространство напряглось и немного исказилось, а дома вместе со своими рекламными вывесками расплывались, словно обильно смоченная водой акварель. Я выдавливал своей массой воздух, по типу закона Архимеда. Это было невероятно. Невероятно до ужаса в груди и животе, в голове и конечностях. С другой стороны, я заметил, что если оставаться неподвижным, пространство вокруг остаётся неизменным, целостным и чётко видимым. Но я уже ничему не удивлялся и не верил в реальный мир. Миры слились в один сосуд.
Но поразмыслить мне не дали. Не дали волосы. Сначала почти невидимые, но становясь всё более огромными и отчётливыми, они лезли из каждого окна этих одинаковых домов. По маленькому волоску, по небольшим прядям, волосы, словно щупальца огромного спрута вырывались из незастеклённых окон и сползали прямиком на дорогу. Спустя некоторое мгновение уже ни одно окно не пустовало, а волосы всё лезли и лезли. Из каждого дома. Из каждого окошка. А я не мог пошевелиться, я онемел. Это был их мир, мир волос. Маленький мирок, где ничто и никто им не удивится, где они могут делать всё, что захотят. Огромная чёрная масса стекала из окон на дорогу, где уже было ничего не разглядеть. Они закрыли дорогу. Они закрыли весь горизонт. А потом, эта беспорядочно наваленная огромных размеров куча, стала вращаться. Сначала медленно, потом всё наращивая обороты, пока не превратилась в сумасшедшую быструю воронку из спутанных волос. Я стоял и смотрел на всё это. Мне некуда было идти или бежать. Спереди меня был бесконечный ряд домов, сзади - то же самое. Та же дорога, уходившая в бесконечную серую даль.
А потом, будто включив реактивный двигатель, воронка кинулась на меня и за секунду поглотила моё тело. Перед глазами вспыхнул свет. Это произошло тоже за считанные секунды, а потом всё стало снова тихо. Но находился я уже в другом месте. Хотя нет. Место, по всей видимости, было то же самое, потому что я не помню, чтобы двигался куда-то, - я оставался стоять на месте. Вокруг меня сменилась локация. Пространство было то же самое - вязкое и тягучее, но картинка изменилась. Вместо бесконечной дороги и домов, вокруг меня стояли пышные зелёные деревья. Над головой виднелось голубое небо, ни единого облачка. Под ногами была поляна, сплошь усеянная какими-то красными цветами. А в центре этого сосуда, прямо напротив меня, стоял маленький домик; у его крыльца стояла девочка, держа в руке дешёвую куклу. Девочка была одета в лёгкий сарафанчик и сандалии. Её пышные чёрные волосы доставали ей до плеч. Девочка смотрела на запертую дверь домика.
А я смотрел на девочку. Она была такой маленькой, такой хорошенькой. На вид, лет четырёх - пяти. Здоровый румянец играл на её щеках, маленькие, пухленькие пальчики держали куклу за пластмассовую руку, второй ручкой девочка теребила кончик своего сарафанчика. А глаза всё так же пристально, с необыкновенным детским интересом смотрели на запертую дверь.
Я никогда не задумывался о детях, и разговоров об этом у нас с Катей совсем не возникало. Мне всегда казалось, что дети - это огромный труд, доступный только готовым, чуть ли не избранным людям. Я не видел себя в качестве отца, а Катю - в качестве матери. Я не понимал, как можно терпеть всё это, - крики, слёзы, обгаженные пелёнки, глупые поступки и проказы, - всё это было выше моего понимания. Я знал, что это где-то случается, но никогда оно бы не случилось со мной. А тут эта девочка... Такая маленькая, такая хорошенькая. И её взгляд. Взгляд больших детских глаз. Глаз, которые во всём видят что-то новое и интересное в неинтересном. Так она смотрела на эту дверь, с нескрываемым любопытством, будто ждала кого-то.
А у меня в душе царила безудержная нежность к этому чудному ребёнку. Мне захотелось взять её на руки и спросить что-нибудь. И слушать её детский тоненький голосок, смотреть в её блестящие глаза и отвечать на её смешные детские вопросы.
Девочка всё смотрела на дверь, теребя кончик своего платьица, а в окне домика я увидел, как что-то длинное мелькнуло и исчезло. Я вздрогнул; пространство вокруг исказилось. Затем, через открытую форточку окна, показалась маленькая прядь волос, которая всё вырастала, становилась длиннее и тянулась к девочке. А малышка всё смотрела на дверь. Меня затрясло, и я двинулся вперёд. Попытался открыть рот и крикнуть, но ничего не вышло, вокруг стояла безумная тишина. Только воздух напрягался и сопротивлялся моим движениям. Деревья стали хрустеть и ломаться под напором моих движений. Картинка становилась нечёткой и, чем больше я продвигался к девочке, тем больше искажалось пространство, и меньше деталей уже можно было разглядеть в нём. Я видел, как кончик волос коснулся шеи девочки, от чего та, не прекращая смотреть на дверь, почесала свою маленькую беленькую шейку. А я почувствовал отчаянье и пустоту, я понял, что мне ни за что не добраться до девочки вовремя, волосы были гораздо ближе, пространство всё размытее и размытее.
Я закричал из последних сил и почувствовал, как воздух ломается, будто стекло, около моего рта. От беспомощности и безграничной злости слёзы снова потекли по моим щекам. Я не прекращал двигаться, становилось всё сложнее. А потом, я увидел, как тугая прядь чёрных, потусторонних волос обматывается вокруг нежной шейки девочки. Я сделал последний рывок, от чего пространство вокруг меня выгнулось, картинка исчезла, глаза ослепил яркий свет.
Я очнулся в кабинете у Молчанова. С мокрым лицом от слёз. Но, что-то было не так...
Глава 13
...или послесловие
Николай Петрович Молчанов сидел за рабочим столом, потирая руки и смотря на сидевшего напротив паренька. В комнате было душно, приоткрытое окно впускало с улицы звуки моторов машин и едкого дыма. Но так было легче - не приходилось потеть от жары. Лёгкий сквознячок обдувал и дарил прохладу. Молчанов расстегнул верхнюю пуговицу халата и уставился на лежавшие перед ним листы бумаги, исписанные мелким почерком. Он уже не раз и не два перечитал то, что в них написано и теперь смотрел на подчёркнутые им самим некоторые места в этой писанине. Он тяжело вздохнул.
- Павел Алексеевич! - позвал он паренька напротив.
Тот застонал и задёргался на стуле. Из его закрытых глаз скатилось две крупные слезы.
- Павел Алексеевич! - снова позвал Молчанов, на этот раз громче и жёстче.
Пашины глаза резко открылись, ртом он жадно схватил воздух, будто находился всё это время под водой. Парень дёрнул руками, с ужасом уставился на Молчанова, открыв рот. Два человека в белых халатах тут же кинулись к нему, но были остановлены поднятой вверх рукой Молчанова.
- Товарищ капитан, - прошептал Павел Алексеевич, - что... что случилось... где я? Что с Вами?
Парень хлопал широко открытыми глазами, его слова, будто с каждой буквой, становились всё громче и громче. Последняя фраза уже криком вырывалась из его рта, он попытался встать, но тут же плюхнулся обратно на стул.
- Спокойно, Паша, ты ещё слаб. Действие лекарства ещё не закончилось. Сиди спокойно, ладно?
Рука парня дёрнулась.
- Какого лекарства? Товарищ капитан... Какого лекарства? Товарищ...
Павел снова и снова твердил одни и те же слова. Он не мог остановиться. Через полминуты он уже смотрел куда-то сквозь Молчанова и повторял одно и то же.
Молчанов махнул рукой.
- Уведите. Хлорпромазина внутремышечно...
Трясущегося Павла Алексеевича подняли под руки и увели.
- Товарищ капитан... какого лекарства... - всё повторял он, даже не сопротивляясь.
Молчанов разглядывал исписанные листки. Был поздний вечер, и тяжёлое летнее солнце заваливалось на горизонт, растекаясь красным моторным маслом по всему небу. Духота потихоньку спадала, но Николай Петрович Молчанов сидел без своего халата; ворот голубой рубашки был растёгнут. От тяжёлых раздумий его оторвал стук в дверь.
- Можно, Николай Петрович, - в дверном проёме появилась маленькая голова, с такими же маленькими глазками.
- А, Тычков, входи, ждал тебя.
Вошедший человек сел напротив Молчанова тут же закинул ногу на ногу. Его маленькие глаза шустро скользили по Николаю Петровичу, на лице было подобие улыбки.
- Опять буянил? - спросил Тычков.
- Да не то чтобы... - произнёс Молчанов, не отрываясь от бумаг, - опять писал. Не так, как обычно, правда...
- Не так?
- С закрытыми глазами. Во сне. Молча, пришёл сюда ко мне, кинул на стол кипу своих бумажек и уселся... Вот так же, как ты. Я оторопел, естесственно, немного. Позвал санитаров, вставил им за то, что пациент оказался у меня в кабинете. Да ещё какой пациент! Потом он начал писать, мы все наблюдали. Сидел неподвижно, лишь скрипел своей ручкой, потом начал плакать, потом резко дёрнулся, бросил ручку, откинулся на стуле.
- Удивительный персонаж!
- Хватит, Тычков! Это тебе не комедия, а мы тут не режиссёры-постановщики! Это пациент с глубокой шизофренией, очень тяжёлый случай.
Улыбка сползла с лица Тычкова. Опустил ногу на пол, а руки положил на колени. Строгий тон Молчанова любого мог поставить на место.
- Да, извините, Николай Петрович, - сказал он.
- Ладно, не время нам с тобой извиняться, такие мы с тобой люди. Разные, - сказав последнее слово, Молчанов посмотрел Тычкову в глаза, - но работа у нас одна, понимаете? Жалко паренька...
- Николай Петрович, - глядя в пол, произнёс Тычков, - тут пациенты годами лежат и с менее тяжёлыми случаями, а этот...
- А этот... - Молчанов заглянул прямо в глаза Тычкову, - ...а этот сегодня, открыв глаза, сидя прямо на том самом месте, где сейчас сидишь ты, понял, что что-то не так. И что его видения не те, что раньше, понимаешь?
- То есть?
- Он впервые за четыре дня, что содержится у нас, взглянул на меня здоровыми глазами. Да, он до сих пор называл меня товарищем капитаном, но я уже не выглядел в его глазах бравым полицейским. Он, наконец-то, увидел доктора Молчанова. Он воспринимал мои слова адекватно. Так, как я их говорил.
- Но как? Как он... победил свои галлюцинации... Так... так быстро, - Тычков не на шутку изумился.
- Ответ тут.
Молчанов кинул два листа перед Тычковым. Тот схватил их и начал жадно читать. Его маленькие глазки бегали из стороны в сторону. Затем он вернул их Молчанову.
- Ничего не понимаю. Куда там завели его фантазии и как это связано с тем, что он понял, наконец, где находится...
- Не совсем понял ещё. Я распорядился ему вколоть хлорпромазина, поэтому он сейчас опять в своих снах.
- Но зачем? А если он опять вернётся туда...
- Не думаю. Когда он очнулся, то начал просто истерить. Чтобы избежать последствий я распорядился вколоть маленькую дозу хлорпромазина. Но вот что я думаю, Сергей Дмитриевич. Эта его последняя писанина... Он... Он будто вырвался. Словно перепрыгнул из мира своих фантазий в наш мир, попутно задев что-то среднее, что-то похожее на обычный кошмарный сон, который связан с реальными воспоминаниями.
- Словно за кошмарами есть другой мир, в котором мы можем существовать, который реальнее, чем сны... - прошептал Тычков.
- Что?
- Человеческий мозг непостижим, профессор, - улыбнулся Тычков, - каждый сходит с ума по-своему и у каждого в голове есть своя планета, на которой он хочет сойти с ума.
- Ну, хватит, Сергей Дмитриевич. Мы врачи, а не философы. Но я опасаюсь. Опасаюсь, что теперь, когда пациент Павел Алексеевич Круглов смотрит на мир трезвыми глазами, правда и реальность могут его убить.
Тычков ничего не ответил. Дрожь в голосе Молчанова напугала его как никогда.
Николай Петрович Молчанов сидел всё там же, за столом. Была ночь, а он всё не торопился домой. Его мучила тревога, а душа металась где-то в животе. Он то и дело перечитывал строчки на грубой бумаге.
"...вечером пришёл домой. Дверь в квартиру была открыта, хотя соседи утверждают, что Кругловы всегда закрываются, даже когда кто-нибудь находится дома. В квартире Павел Круглов обнаружил ужасающую картину. Его сестра, Мария Алексеевна Круглова была изнасилована и убита тринадцатью ножевыми ранениями. А его маленькая трёхлетняя дочь была повешена на трубе. Мария Алексеевна имела шикарные чёрные волосы, которые доставали ей до пояса. Безумный маньяк (или просто преступник, что маловероятно) отрезав шикарную копну волос, повесил на них маленькую дочку Павла прямо на трубе.
В тот вечер Зинаида Львовна Райман проснулась от дикого вопля. Кричали в соседней квартире. Она поспешила вызвать полицию. Приехавшие сотрудники обнаружили Павла Круглова, который, с исполосованными бритвой руками, держал на руках свою маленькую дочь и, рыдая, истекал кровью. Сначала, полицейские подумали, что это зверское убийство - дело рук самого Круглова. Но мотивов у бедного отца и брата не было совсем, - по рассказам соседей он очень любил свою дочь и сестру, которая проживала вместе с братом после развода с мужем. Да и алиби у Круглова было - коллеги утверждают, что он весь день провёл на работе и никуда не уходил. Учитывая те факты, что работа Павла находится на другом краю города, а смерть бедных девушек наступила около полудня, было совершенно ясно, что Круглов не виновен в смерти своих сестры и дочери.
Что же тогда? Кто был убийцей? Кто беспрепятственно проник в запертую изнутри квартиру и расправился так жестоко с жертвами? Почему никто не слышал криков? Полиция ищет убийцу, поимка которого обещает дать вопросы на все ответы. А Павел Круглов, тем временем, помещён в психиатрическую больницу номер три. У бедного отца не выдержали нервы, и он, по словам главного врача больницы Молчанова Петра Николаевича, потерял ощущение реальности..."
Молчанов отвёл глаза от газетной вырезки и потёр затёкшую шею. Бессонница мучила его уже третий день подряд, как только с ним начал разговаривать Павел Алексеевич Круглов и называть его "товарищ капитан". Молчанов вспомнил, как пациент неадекватно отвечал на вопросы, будто в его голове какой-то трансформатор перемешивал сказанные врачом буквы и выстраивал совсем другие предложения, которые подходили только под ту реальность, в которой находился Павел. В те периоды, когда хлорпромазин прекращал своё действие, Павел Круглов говорил с Молчановым, он говорил с санитаркой тётей Любой, он говорил с пациенткой по имени Катя, страдающей манией преследования. Вчера Катю выписали, и она мирно уехала домой, под присмотр родителей. Она уже почти излечилась, когда Павел Круглов прощался с нею и отправлял её на работу, успокаивая и гладя по плечу. Катя грустно улыбалась и гладила Павла по голове, приговаривая, что всё будет хорошо. Больше она ничего не могла сказать. В последний этот день у неё навернулись слёзы на глаза, ведь она была единственным человеком, которого Павел любил в своих галлюцинациях и с которым первым заговорил, строя свою ужасную историю у себя на планете в голове, как выразился Тычков.
- Всё будет хорошо, - прошептала она, сквозь слёзы глядя на Павла и гладя его по заросшей голове.
- Всё будет хорошо, Катя, - сказал тогда Круглов, - только позвони мне, когда у тебя на работе будет обед, ладно? Всё будет хорошо, я сожгу эти волосы.
Катя уехала, и тогда начались приступы настоящего буйства. Павел, лишь очнувшись от глубокого сна, куда-то бежал, его хватали санитары, он что-то кричал, иногда засыпал и проваливался в сон прямо у них на руках. Добрая полная санитарка тётя Люба тоже говорила с Павлом, а после чего подошла к Молчанову и попросила перевестись в другое отделение.
- Сколько тут работаю, а такого ужаса не видела, - сказала она, - ужас он на меня наводит, Круглов этот. Жалко мне его, от чего ещё страшнее. Переведите, Николай Петрович!
И Любу перевели. Тогда Круглов начал говорить с Тычковым, издеваться над ним. Сергей Дмитриевич, будучи отличным врачом, но слишком впечатлительным, сразу не нашёл общего языка с Павлом и тогда к делу приступил он, Молчанов. Непонятно почему, но Круглов всегда сидел и спокойно говорил с ним. Иногда (и это было огромной удачей), Павел начинал смотреть на главврача трезвыми глазами, будто правильно отвечая на поставленные вопросы, но потом предложения снова возвращались в то русло, которое текло только на той самой планете. Круглов жил там, он был полностью поглощён своим миром. Больница была для него городом, а все вокруг - жители этого города. Он видел то, что хотел видеть и слышал то, что хотел слышать. Все вокруг знали историю Павла Круглова, все вокруг жалели его, но ничего не могли сделать с этой планетой у него в голове.
И ещё этот дневник. После буйств или просто хождений и разговоров по больнице, Павел Круглов садился за стол и писал. Писал вот эту ужасную историю, которая теперь лежала на столе перед Молчановым. Сегодня он пришёл с закрытыми глазами и написал вот эти последние строчки...
Всё это вспомнилось врачу за секунду, а через некоторое время в кабинет постучалась санитарка и не дождавшись приглашения вошла.
- Круглов проснулся, Николай Петрович...
- Что...Что он делает? А, к чёрту, подготовьте хлорпромазин... Живее!
Он вскочил и побежал к палате, на ходу обгоняя молодую санитарку. Если он придёт в сознание, если вспомнит, - думал на бегу Молчанов, - он не переживёт. Не переживёт совсем. Правда, которая его ждёт тут, намного страшнее, той, что роиться на его планете, у него в голове.
Молчанов влетел в палату, где застал Круглова сидящего на стуле.
- Товарищ капитан, где же Вы были... Мне... Мне такое привиделось, чуть не обделался во сне.
Молчанов тяжело выдохнул воздух. И улыбнулся Круглову.
- Говори, Паша...
А мысленно подумал: "Добро пожаловать на свою планету, Павел Алексеевич Круглов".