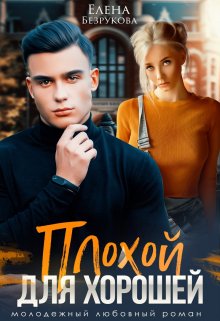Все, я сказала
Все, я сказала
- Все, я сказала!
«ладно, Всеясказало, ладно. Сказала и сказала, чего на понос-то исходить?»
По потолку побежали трещины, легко оформились в крылья и клюв. Клюв проартикулировал «крыкар». В полной тишине и извести.
«слова не скажи».
Из трещин сформировался желтый глаз. Глаз с любопытством , не моргая уставился.
«ты, птичка, не того… лети, дурра такая, на поле бранное, собирай свою жатву».
Желтизна стала наливаться. Багровым сумраком.
«а такое, вообще, бывает?»
Клюв снова проартикулировал, и снова в тишине. Полной, как женщина в возрасте и усталой обреченности своей тихой радости. Как без радости в таком возрасте? Никак.
«то есть, бывает…. Понятно…»
Сумрак стал окончательно багровым и стал вытекать из трещин.
"знаешь, птица, чем колдунство отличается от волшебства? Не знаешь. А хочешь узнать?»
Как безмолвие может быть таким выразительным? Как?
«а не скажу… хотя всем известно, что волшебство происходит в человеке из его детства, из самой непредсказуемости любви».
Багровые капли сумрака стали падать с беленного потолка, оставляя в воздухе шипящую полоску. Падали и растворялись в вечернем воздухе, не долетая до пола. Словно пробки из-под шампанского.
«весело живешь, птица. Вот, сделаю я на этот ремонт, и исчезнешь ты в небытие, как и не было. А из перьев твоих я подушку набью. Чтоб спать было сладко. И оберег вышью скандинавской гладью».
Желтый глаз сверкнул печалью, капнул чистой слезой, слеза слезла с глаза и упала на пол. И началась капель. Частая.
"где-то был тазик, нужно подставить, пока доски не сгнили. Или, хрен с ними? С досками?»
Солнце катилось за горизонт.
Который год? – это я вас спрашиваю, который.
И век.
С потолка лилось. Все лилось. И звуки, и слова, и чушь собачья, и чушь человеческая, а солнце все закатывалось и закатывалось. И день, длинный и весенний, переходил в теплый вечер. Мягкий, как бумага в рулончиках, и синий.