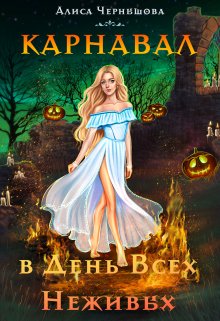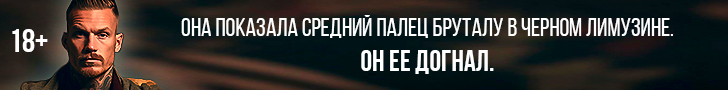Хризантема клана Цинь
Хризантема клана Цинь
Ее кожа, устланная невесомой кисеей рисовой пудры, под пластами окрашенного в мраморные тона кимоно, светилась внутренним светом. Тонкие и длинные пальцы, увенчанные доведенными до совершенства овалами ногтей с темно-зеленым, как шкура кустарниковой гадюки, покрытием, покойно лежали на шелковых подушках сидения. Раскосые глаза, с необычным разрезом, за занавесью мягких темных ресниц под соболиными бровями сверкали предгрозовой синью и адским огнем. Алое перекрестье губ майко манило муслиновой мягкостью. Но, как и она вся, от кончиков иссиня-чёрный волос, заправленных в сложную прическу с черепаховыми гребнями и нитями коралловых бус до эбеновых сандалий из дерева Айжу, самого старого и дорогого в предгорье, эти губы были недоступны. Санари – ученица женщин культа Мадавэ, с момента рождения принадлежала господину Идо. И никто не вправе был ее трогать.
Но я знал, это моя женщина. Моя!
Это не нужно было доказывать, ибо семь душ, как семь демонов смертных грехов, что жили в моем изменчивом сердце, были залогом того, что я добьюсь ее. Но каким путем? Час от часа они вырывали мое слабое сознание из оков плоти. Занимали пустующее место. И возвращали все на круги своя, как только необратимые поступки были совершены.
Многодушие терзало меня. Низводило положение в обществе, заставляя долгие часы простаивать у позорного столба и, как собака, зализывать увечья и раны, которые сыпались, как из рога изобилия. Полубезумный, по ночам, я скитался по улицам Ано. Пугал припозднившихся прохожих. И кричал. Истошно кричал, разбивая пальцы, руки, ноги в закоулках собственного дома на сосновых сваях, когда на сердце горели печати их прихода и моего возвращения. В попытках перебороть эту силу, я обращался к магам, целителям, священникам и прохвостам, что заменяли тех, других и третьих. Молился. И желал смерти. Но не умирал. Они спасли меня. Снова и снова. Спасали! Горькое, как полынь, слово.
Все они собрались по одному.
Первым, в мою дверь постучался немощный старик в пахнущем дождем халате, надетом на полуголое тело и истесанной, до неприличия, обуви. Его дырявый зонт из белой бумаги с орнаментом из лепестков тигровой лилии и деревянной клюкой, вместо ручки, видал лучшие времена. Их, наверное, познала и потерявшая первозданный вид перевязь, которая закрывала ноги от пояса до бедер. Складки этой ткани, проглядывали между полами халата на выпуклом и отечном животе, и в просвете кривых, словно колесо, ног. Темная чаша с чернильной проплешиной, прожжёной наверняка во время стылых ночевок на открытом воздухе, дрожала в сухих, как ветки, руках. Непрестанно слезящиеся глаза смотрели на меня жалобно и благодарно.
Я, пребывая еще в здоровом теле, думал, что следую законам гостеприимства, впуская бедного, но дорогого сердцу путника. Но, как же я ошибался.
Стоило ему переступить порог моего дома, мой любимый Ано, что располагался недалеко от порта Ханко, накрыли тропические ливни. Сваи дома справлялись с наплывом воды. Однако, холод и сырость поселились и в его углах.
Каблучки эбеновых сандалий Санари, живущей на пару домов ниже по улице, все чаще стучали по каменной мостовой, унося ее по заказам и пожеланиям старших матрон Мадавэ. Ее хлопковая накидка в виде белоснежного лепестка, натянутая на бамбуковое полукружие основы, которая защищала прическу, мелькала то тут, то там, в зарослях буковой аллеи, но не появлялась у синевато — пурпурной изгороди из винных лоз усадьбы Казари — моего жилища, чтобы эта прелестная девушка навестила меня.
На меня напала тоска… Куда бы я не шел, в какую бы сторону не направился, везде ее аромат: тонкая взвесь мяты, шалфея и нагретой на солнце морской соли, будоражил меня, рисуя в воздухе едва заметный образ. Пьяный от этих видений, я приходил домой, где деловитый, не по годам, и все еще не отзывающийся ни на какое имя старик, по-видимому, окрыленный моим совсем простым поступком, по отношению к нему, готовил нам ужин на двоих.
По началу, это было вкусно. У старика проявился талант к приготовлению пищи, однако, чем чаще я пробовал его блюда, тем преснее и безвкуснее казались они. В почтительных разговорах с ним, обсудив эту неприятность, я взял на себя обязательство кормить нас обоих.
Но тут вмешалась странная череда случаев. Ливни, бушевавшие над Ано, три месяца к ряду, прекратились так же внезапно, как и начались. Облака разошлись, и на ночную землю стала заглядываться непомерно большая луна. Не теряя ни в весе, ни в свете, она всей своей сиятельностью путешествовала по небу от заката до рассвета, вот уже десятый день подряд.
Так вот, стоило накануне пришествия этого Ока неба, приготовить еду и оставить ее на ночь — с тарелок, плошек и блюдец начало пропадать все до единой крохи из моих припасов и ничего из его заготовок. Теряясь в догадках, о тайном посетителе, чудаковато ворующем наши продукты во время лунных циклов, я вспомнил, как старик говорил о нескольких голодных годах, что он провел на улице, набивая живот только остатками рисовых лепешек из трапезы господ, которым он прислуживал от случай к случаю, да водой из стоячих луж. Поэтому и простил ему эту причудливость с легким сердцем. Но дело так просто не закончилось.
Вставая из-за стола и почти не испытывая удовольствия от еду, я день за днем ощущал все усиливающееся недомогание, пик которого приходился на полночь. Не в силах, совладать с собой, я намеренно начал пропускать приемы пищи. Однако, засыпать не поевшим и злым, было в разы труднее.
И, однажды, посреди ночи я увидел Их. В призрачном свете Луны, проходящем сквозь тонкие занавеси на окне, отбрасывая до абсурда угловатые тени на ложе, над моим челом склонились двое: безымянный старик, слезящиеся глаза которого прочертили на его коже мутновато — поблескивающие протоки. Горькая влага капала на мое лицо, маслянисто сбегая по полуприкрытым векам, к уголкам рта. Дернувшись от отвращения, я попытался отстраниться, но тот, кто был рядом с ним, и на кого переместился мой осоловелый взгляд, напугал меня еще сильнее. Перевернувшийся и вставший на ногу-клюку белый зонт, с одним из лепестков тигровой лилии, который превратился в широкий и подвижный, длинный язык, таращился на меня багровым глазом, что проклюнулся на навершии трости.
Старец безмолвствовал, и лишь тихонько лил слезы, уже на смазанные воском доски пола моей спальни. Его побратим даром молчания не обладал. Косая прорезь, возникшая чуть ниже глаза и вокруг живого и извивающегося языка, растянулась в беззубой ухмылке и оттуда донеслось: "Во-от, просну-улся, господи-ин?"
Вид разговаривающего чудища с жутким акцентом окончательно меня расстроил, я икнул, превозмогая бунтующий желудок, и вышел из этой схватки победителем. Мотнул головой по соломенной перине и до утра проспал крепким сном.
Жаль, что утро добрым не было. За короткие часы до восхода солнца, я понял несколько вещей сразу: из усадьбы пропали и старик, и его зонт. Этот пожилой прохиндей, был колдуном, не меньше, ибо когда его чары слегка развеялись, я заметил, как бессовестно округлилось мое тело. И не подарком неба был его зонт, так как невидимый вес его отныне поселился на моей шее, в дугу сгорбив плечи. Еще одной не приятной неожиданностью стали две крохотные печати с непонятными знаками внутри, появившиеся на моей груди слева. Отметины эти ни оттереть, ни смыть не получилось.
Понимая, что со мной случилась напасть, грозящая большой бедой, я, после омовения направился к святилищу Ксан, богини мудрости и знаний. Перечитав и переложив не одну кипу свитков, что считались ее подношением, я нашел их описание, не вполне верное, но хватило и этого. Душа тоскующего и ипостась чревоугодия — поваренок Кабаси, явились в этот мир, сделав меня своей жертвой. А потом прибыли и остальные…
Близнецы Хьяо и Ляо, тощие, с одинаковым нахальным выражением на куцых, улыбчивых физиономиях. С такими же маленькими руками и ногами, они здорово напоминали поднявшихся на задние лапы и очеловечившихся хорьков. Но такое впечатление было не только внешним. Вечно дерущиеся, бранящиеся, а временами и перебрасывающиеся недостойными шуточками, они смахивали на семейку этих зверьков и стояли друг за друга горой. Еще одной их общей чертой была зависть.
Большую часть времени они кружили по городу и всегда их разговоры сводились к одному:
— Ляо, глянь-ка, на этого господина? Смотри, низинский шелк, а? Ведь низинский? Нет!? А полы — то халата в пыли! Ха. Может быть к Мадавэ спешит, вот пыль и не оттер?
— Да зачем он Мадавэ? Ни стати, ни росту! Среди торговок кого — то себе присмотрит и "плыть мандаринкам по реке"!
— И кого же он на нашем рынке найдет! Бабы там сытые, крупные, кузнецами, да грузчиками глаженые, они и на проплешину ему не посмотрят! Угу!
— А эта? Во какая! Эх лиса, лиса, не купись на телеса…
— Ага, рыжая, бесстыжая, по ней бы в горку… Ха-ха!
— Слыхал, она саван для невесты в поместье Идо шьет!
— Саван? Не кимоно? Так ведь не в соку еще девка! Куда ее… того, этого?
— Ну так, вынь, да положь. Шьет, пошьет, хвостиком по полу метет, в хозяйки дома себя метит.
— Хорош заливать — то, хвостиком! Ты его у нее видал? Не видал! А туда же!
— В нее влюбился, чтоль? Одумайся! Она атлас, да парчу любит и камушки: нефриты, рубины, яшму! А ты ей что дать можешь? Катышек из пупка!
— Да не влюбился я… Что?! Вот я тебе сейчас задам!
— На! Сам получи!
И вот так каждый день.
Я не связался бы с ними, зная их буйный нрав и злые языки. Но именно они заплатили за меня залог, когда в беспамятстве, унынии и приступе обжорства, я нагрянул в едовую старухи Мико и разгромил все движимое и недвижимое. Так я думал…
Пара золотых монет перекочевала из рук братьев в загребущие лапы стражи, когда латники заковывали меня в цепи у позорного столба в центре Ано.
Эти тощие хорьки тащили мое обессилевшее, после прихода Тоскующего и Кабаси, тело через весь город. И их я слышал, когда на смену беспамятства на меня накинулся парализующий сон.
— Вот это хоромы, брат! Да тут деньгов, да пороков намеренно! Не зря этот зонт говорящий, наводку дал! Тут есть чем поживиться. Да и хиляк этот нас уже не отпустит. Там, где поваренок свою кашу сварит и нам место будет. Прав я, Хьяо?
— Конечно, брат!
— Неужто, впервые об одном и том же думаем?
— То-то и оно!
Голоса, постепенно ставшие хрипящими и визгливыми, кружили в воздухе надоедливыми мухами еще, как минимум, до обеда. О чем они спорили, мне уже было невдомек! Однако, когда дремота, наконец, меня покинула, их уже и след простыл. Они исчезли, а мне в награду достались еще две печати, заключившие сердце в квадрат. Увы, четное число его углов, как и сама цифра "четыре", созвучная в наших краях со словом "смерть", несли грозное предзнаменование. Но, пока я был жив! А эти двое, почти не показываясь в видимом обличии, зазвучали эхом моей нечистой "совести". Разрываясь между ними, я потихоньку сходил с ума.
Приступы ярости, злословия и не имеющие названия поступки преследовали меня повсеместно. Местные жители, видя, что творится неладное, предлагали помощь, но тут же натыкались на поток безобразной брани, что вталкивали в голову Хьяо и Ляо. За это недостойное благородного юноши поведение, меня опять отвели к месту позора. И, хотя количество наказаний моих за провинности разрослось, ни порки розгами, ни биение палками, не причиняли мне прежней боли. Она, разделяемая на четверых — тухла, так и не успев пробиться к той части души, где все еще был я. Кожа моя, покрытая шрамами от увечий, огрубела. Волосы склеились от каждодневного обливания их нечистотами. Глаза, под коркой грязи, отекли и воспалились, так что меня легко принимали за деревенского косоглазого дурака. Раздражение толпы народа, которому уже пришлось от меня натерпеться, после этого слегка поутихло.
Но даже оно было не в счет, если бы я не знал, что меня в таком отвратном образе могла увидеть Санари. Я пугал и ее. В те мгновенья, когда случались срывы, за воротами Казари, расписанными танцующими павлинами и соловьями, прекрасная майко застывала пугливой горной ланью и долго не приходила в себя. Все это видел я, скрытый от посторонних глаз, полотнами, не впускающими свет. Да, обуреваемый конфликтами моих подселенцев, я начал по — другому воспринимать солнечный свет. Губительный для их душ, на моей коже он оставлял незаживающие ожоги. И тогда вой, в котором уже не было ничего, кроме той настоящей боли, вырывался далеко за пределы моего дома. Санари — моя родная душа, ощутив его сполна, уже не сдерживала слез, размазывая их маленьких кулачком и полой кимоно по одетым в румяна щекам.
Я хотел бы ее успокоить. Хотел! Но моим склочным ипостасям это было не нужно.
В ночь, когда они вновь оставили меня за пределами тела, Кабаси заявил, что больше не готов набивать пять голодных животов тем, что удавалось получить с разбоя. Демоны, демонами, но у них, как и обычных людей, были разные вкусовые предпочтения, а Тоскующий вообще прослыл редким гурманом. Посовещавшись, они сошлись в чем — то, наподобие плана, но поделиться со мной даже не попытались. Чувствительным пинком вернув меня так, что печать возвращения взорвалась ослепительными искрами молнии, они затихли надолго.
Два месяца тишины для меня стали подарком небес. Но стоило минуть этому времени, "сотоварищи" начали действовать.
Осенним днем, когда листья дикого винограда налились цветом королевского пурпура, хитро осклабившиеся братья, которые на время обрели видимость, принесли в наш дом увесистый мешочек золотых, с самым ценным — имперским оттиском. Тут же взяв в оборот и этих завистливых недотеп, и монеты, Кабаси уединился со стариком, подобострастно выпрашивая у него совета. Старый бес, что теперь постоянно пребывал в той форме, которая меня испугала вначале, отчего — то почти не говорил и поэтому поваренок так сильно его боялся. Но сегодня, старик был миролюбив. Он пробурчал что-то напоминающее заковыристое заклятие, комнату за зашторенными окнами пронзил бледно-зеленый отсвет и все мое окружение внезапно пропало.
Огорошенный и ошарашенный, я оказался на ступенях у трона Идо. По левую его кисть сидела удивленная Санари — еще не его майко Мадавэ, дивная, как лепесток лотоса. Четвертым, в просторных палатах Идо – Канари1, был надменный глашатай Тензо. Прервав его речь, своим чудесным появлением, и чуть не сбив худого, как хворостинка сановника, в облаке летящих по ветру тканей и духов, я заслуживал ответного толчка. Но, состроив на лице одну из скучнейших гримас, Тензо повторился:
— Засим, Император Северных Островов, великий объединитель — Того Цинь, прибывший в провинцию Ано, префектуры Ханко с целью знакомства со своими землями, требует у одарэ2 Идо выдачи шута из дома Казари, после того, как он пройдет обучение премудростям дворцовой жизни в Кана – санго3. Ответственным за обучение назначить господина Тензо. Воля моя такова!
Крикливый слуга правящего клана, по — видимому, еще не читавший отданного ему в руки приказа, пока не понял подвоха. Но теплые лучики света, исходящие из глаз приближенной дамы одарэ, высоко оценившей шутку императора, едва не заставили меня самого покатиться от смеха.
Остроумие правителя было дальновидным, но таким же долгим был срок обучения у Тензо, который совершенно не скупился на слова и удары.
Получив меня в ученики, глашатай со рвением начал разрабатывать свой голос. Особенно ему удавались гневные отповеди. Начиная с утра и до ночи, вычурно растягивая слова, мой ненавистный ментор пел, громче чем обычно:
— Не роди-и-лось еще той ослицы, что-о-о, посчитав тебя своим сы-ы-ном, накормила бы тебя молоко-о-ом! Или того хуже:
— Твою-ю вонь не вытравить ни одним из благовоний Ксан и Ланхаи-и, хотя обе эти мудрые же-нщины и два их божества знают толк в обольщении даже свиней и дураков!
Когда слов для оскорблений и выпячивания себя уже не хватало, в ход шли кулаки и палки. Кулаками он работал один, а вот солдатскую муштру палкой доверил сыну. Этот маленький стервец бил меня по коленям и щиколоткам, когда я стоял, выпрямив одну ногу и подогнув другую, так сильно, что сшитые утром из березового лыка и нитей из рыбьих пузырей просторные сандалии, к вечеру уже были малы, из-за нестерпимо-зудящих мозолей и багровых отеков. Пару раз я хотел осадить юнца, но тут же появлялся его папочка, и мучения продолжались вновь.
По ночам, избавляясь от нанесенных днем увечий отварами лимона и мяты, что приносили сердобольные служанки Санари, я при свете едва горящей лучины начал подмечать, как темнеет над сердцем пятая точка.
Гордый бес Тензо, в брезгливости своей не занявший места в моем сердце, по — моему разумению, докучал мне сильнее остальных.
Но при дворе Идо значилась еще одна сладкая парочка. Изящный иностранец Уилл, с роскошной шевелюрой остриженных по моде европейцев, русых волос и в неизменно дорогом костюме, собранном по видению мастеровых востока: яркий и фальшивый, как бабочка, приколотая к савану умершего, по наущению Тензо, занялся моим гардеробом.
Его умягченные кремами руки были слишком нежны, когда он прикасался ко мне, в попытках обмерять обросшую жирком талию или глубину исподнего белья, хотя, всюду, где он ходил и где охая от удовольствия и прыская от смеха, разбегались по углам молоденькие служанки, разливалась дикая смесь ароматов крыжовника и гиацинта, его сомнительных духов, выделяющих любвеобильную натуру.
В конце — концов, устав от моего недружелюбия и пыхкая тоненькой трубочкой, застрявшей в зубах, Уилл скинул на мои руки десяток рулонов дорогой и рябящей в глазах от обилия расцветок ткани, так что я принял облик нарядного попугая, и отправил меня к своей возлюбленной Санне, швее и рыжей лисице, о которой говорили Хьяо и Ляо.
Странно, но когда я уходил от Уилла, дымок его трубки, надолго повиснув в воздухе, загустел и в этом густом тумане начали наливаться объемом линии сплетающихся тел: моего и Санари. Грациозную линию плеч девушки почти не скрывали полы распахнутого кимоно и кхм… Обретший полное сродство с реальностью, морок растаял от малейшего дуновения ветерка.
Всю следующую ночь я не спал, ибо тугая сила, беспокоящая низ живота, поднималась все выше и разливалась сильнее от мыслей о мимолетном счастье в дыму Уилла.
На следующее утро еще одной печатью было заклеймено мое тело. Она располагалась ниже — на белой линии живота и разделяла тело на двое. Но уже шесть бесов имели право входа в мой все еще хлипкий стан.
Седьмою стала Санна.
Рыжекудрая красавица, с объемами сверху и снизу, которые не скрывал лаконичный крой изумрудно-зеленого кимоно, в серьгах и кольцах с крупными рубинами и сапфирами, схватила рулоны, принесенные мной, с жадностью, не похожей на жадность обычной женщины. Прикладывая не оформленные еще отрезы ткани к своему выдающемуся телу то так, то эдак и мурлыкая, про себя, какой-то полузнакомый мотивчик Санна не забывала быстро работать ножницами и резаком для полотна. На слегка несвоевременный вопрос, когда же ждать готовое одеяния, она неопределенно мотнула головой, уже полностью поглощенная сочетанием цветов и фактур.
Я прошел мимо нее, не выказав ни один намек на недовольство, и только возле входа в маленькую комнатушку обернулся.
Санна была занята делом, а внизу, на границе между собравшимся складками платьем девушки и темно-коричневыми досками пола, бело-рыжий кончик ее лисьего хвоста, по-видимому, одного из трех, возбужденно дрожал и выделывал сложные петли. Хьяо все — таки оказался прав!
Через семь часов томительного ожидания, заказ был готов. На боковых поверхностях болотно — зеленого халата, с интенсивно — золотой оторочкой, аппликациями из малиновой, сизо-зеленой и палевой ткани, которые по размеру не превышали величины человеческого ногтя, были рассеяны неказистые маки.
Зато наряд моей гостьи — швеи, умело собранный из мозаики разных оттенков, хоть сейчас можно было везти, как приданное дочери императора. А мне было почти не жаль потраченных денег, сил и времени.
Седьмою печатью жадность приковала меня к себе, и, по — моему, и ее можно было перековать в бережливость. А уж она мне поможет в дальнейшей жизни с Санари.
Две зимы, отведенные властителем северных островов, для обучений, почти закончились. Все, что втолковывали в меня мои непоседливые подселенцы, разошлось по границам того, что нужно и того, что важно. Тем, что было нужно мне и семерым — стал предстоящий экзамен. Тем, что важно, была она. За это долгое время мои навыки и умения преобразили меня.
И вот, шутовской халат и личина местного дурачка, сброшены. Я стою перед ней, сидящей в одиночестве, без своего господина, у прудика с рыбками, облаченный в тугое и строгое одеяние воина, ее защитника и вассала. Тело, под плотными слоями ткани, взращенное сытными ужинами поваренка Кабаси, муштрой гордеца-глашатая Тензо, чьи громкие и гневные отповеди запомнились мне надолго, ярилось необузданной силой. Силой, которую я хотел ей показать!
А она? Она остается тем же прекрасным видением, которое я познал две зимы назад. Та же сияющая кожа, белизной оставившая далеко позади ее любимые хризантемы — символ стойкости и благородства. Пунцовые губы, очерченная лука которых круче, чем изгибы луков армии Циньских воинов. Брови, черные, как плодородные земли долин. И эти глаза, кроткие и притягательные омуты синевы. Я ожидаю, когда опущенные в смущении веки дрогнут, выпуская наружу беспредельную лазурь. Но она открывает мне другое!
Едва заметный поворот, смешок, который еще не успел родиться, невесомое касание веера: белоко с крупным красным мазком посередине и вот лукавый бес, увлеченный мной, пляшет в ее пульсирующих зрачках. Фарфоровая кожа трескается, выгорает на малиновых всполохах, рвущихся изнутри. Сходит с обезображенных черт мертвой маской: лоб, глаза, скулы, нос осыпаются пересушенной глиной. Извилистые рога взъерошивают уложенные пряди. Губы, эти манящие губы растягиваются в чудовищной улыбке — оскале кривых и острых зубов. Все еще изящные руки, минуя бесконечные ленты рукавов, призывно устремляются ко мне. А затем, опускаются к полам кимоно, бесстыдно открывая взгляду девственную святыню — тончайшую голень, хрупкую, как гарда самого деликатного музыкального инструмента. Не получив ответа на зов, девушка тяжело поднимается на ноги и окончательно разбивает на черепки свою непрочную оболочку.
Санари хохочет хрипло, натужно, словно сама того не желая! И я понимаю, что ей управляет демон. Восьмой! Еще одна неприкаянная душа, мощь которой несоизмеримо больше власти семи моих подселенцев. Этот дух впивается в меня, занимая все хорошо изученные уголки, пробирает до дрожи рыком, в котором я с трудом различаю: "Я-а-а-ви-и-л-ссся!" "Щелк, щелк, щелк!" — рушатся печати уныния и обжорства, жадности, гнева и зависти, вторя музыкальному звону монет, тех самых монет, с имперским оттиском, что попали в руки завистливых близнецов. Чуть дольше удерживаются оковы прелюбодеяния. Но и они спадают ароматным дымком, витиеватым абрисом юноши в дорогом костюме. Вихляющей походкой молодой человек шагает вслед за укатившимися в темный угол золотыми и тает, уверенный в хорошо проделанной работе. А во мне, глубоко внутри, за семью растаявшими тенями, остается она — стойкая, переливающаяся всеми цветами радуги, жемчужинка моего "Я".
Обратившаяся в демоницу, женоподобная сущность усиливает натиск. Сейчас, сейчас, ее покрывшаяся струпьями, черная от скопившейся мерзости внутри, рука коснется этого крохотного шара и раздавит его.
— Режь, режь хризантемы! Она питается их благодатью! — Хьяо и Ляо, сопроводившие меня к ее покоям и по глупости вернувшиеся после своего развоплащения, кричат в уши, почти разрывая барабанные перепонки.
Неистовое буйство цветения хризантем за ее троном, заставляет меня отвлечься. Словно околдованные, приземистые кустики, выбрасывают кисть за кистью, бутон за бутоном, раскрывая великолепие и убивая его в танце увядания. Кусты хризантем двигаются в заданном ритме калейдоскопа — занятной игрушки, привезенной для майко Мадавэ, чужеземцами. Геометрически — правильные узоры собираются и разрушаются в бешеной карусели граней и плоскостей.
— Режь! — волчий вой разрушает морок!
Я, на мгновение, вижу ее прежний облик и сердце вздрагивает, стремясь хоть на биение, на такт, приблизиться к недостижимой мечте!
— Режь! — призраком в воздухе растворяется последний приказ, но тело уже давно повинуется ему.
Легкий меч покидает ножны слишком быстро, чтобы быть замеченным. Взмах и короткое и четкое ритуальное движение рассекает все доступные вены и артерии, связующие исчадие подземных сил с жизнью.
Кровь. Яркая, алая и темная, как гранатовое вино, застит глаза; льется благодатными потоками по мраморному полу. Горько-сладкая, словно миндальный яд старших жриц Мадавэ: клана верных жен и расчетливых убийц. Пахнущая мокрым железом, солью и морем, она гулко опадает в воды озерца, перекрашивая радостно-оранжевых кои в мутный багрянец. Кровь смачивает волны тяжелого черного шелка с муаровым отливом — последнего предсмертного наряда недоступной богини.
Демон покидает ее, оставляя, как игрушку, стан безвольной девушки, у которой уже нет будущего.
Кровь! Как много крови… Я смыкаю видимые раны, но каждый раз под пальцами пробегает новая струйка. Это не остановить!
Слепленные алыми реками и слезами горя, ресницы закрывают обзор. Веки тяжелеют и уставшее от напряжения, тело уже не может отличить явь от сна. Я погружаюсь в беспамятство.
Тихий голос Санари поет, складывая страшные слова в мелодию детской колыбельной:
«Влажным блеском чёрный мрамор отражает кимоно.
Взглядом дерзким смотришь прямо, но тебе не всё равно…
Сталь по коже: руки, вены. Кровью застило глаза.
Ты смеёшься. Неизменно. Ведь с тобой играть нельзя.
Сладость губ. Сияет голень. Манит прелестью святынь.
Время вышло. Режь под корень хризантему
Клана Цинь.»4
На ее зов, на чарующую песню смерти являются двое: легкая, как цветок, синекожая Ланхаи - богиня милосердия, удачи и материнства и ее божественно мудрая служанка Ксан. Но им не дозволено забрать наши души в обитель покоя. Сгустком непроглядной тени над Санари и мной восстает Восьмой. Безобразная огненная личина, покоящаяся на кольцах отвратных шупалец с сотней маленьких, горящих злобой змеиных глазок - его истинный облик, растет. А в след за ним поднимается и ураган гула, рыка в котором уже нет слов, но все еще есть воля: "НЕ ОТДАМ!"И эта воля растворяет в себе порыв небожительниц. Кольца пламени - части его обличья, падают между мной и девушкой, сращивая наши разумы, души и тела в бесконечном цикле перерождения, где уже не будет света. Но отныне тьма, пришедшая на смену ему, не обжигает.
Скользящейся тяжестью она струится по шее и плечам, рукам, груди и животу, ногам, очерчивая новые грани и линии, словно узоры на каменных плитах.
Веки, словно испуганные бабочки, вспархивают, высветляя неясную фигуру. Удивленно моргаю.
Юноша, что в упор смотрит на меня, высок, статен и хорош собой. С ним так легко будет поиграть!
Темные опахала ресниц опускаются долу, скрывая ураганную синеву моря и вознося молитву тем, кто покинул меня во время недавнего катаклизма.
Семерым!
Вы спасли меня!
Снова…
_________________________
Канари1- на языке местных жителей – «имение».
Одарэ2 – титул, употребляемый императором в отношении военноначальника.
санго3 – термин, употребляемый императором в отношении любого дворцового комплекса, площадь которого меньше императорского дворца.
Клана Цинь.»4 – стихи автора.
#9336 в Молодежная проза
#1182 в Молодежная мистика
#39215 в Фэнтези
#5677 в Городское фэнтези
демоны, материалы для взрослых, восточная тематика
18+
Отредактировано: 23.01.2023