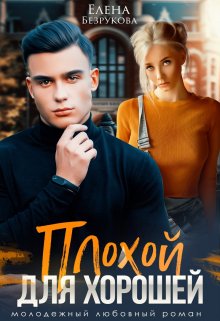январь
январь.
Дремал Январь в плетеном кресле мая.
Выронив нижнюю челюсть, и голову уронив, утопив ее на холмике грудины. Челюсть отставала от головы. На полтакта, на полуоткрытый рот с поджавшимся языком и хрипящим зевом горла. Сквозь прорехи, совершенно свободно, туда и обратно, продувался воздух. Густой и теплый. Влажный и недвижимый. Ощутимо парило, настаивая тишину в тени от старой, многое повидавшей, яблони. Еще недавно цветущей - большими, розоватыми цветами, которые густо усыпали ее ветви, ее крону, а ныне – частично лежащими на земле, частично парящими в теплом воздухе и частично прячущимися в разросшейся за эту неделю листве, за крупными, мясистыми листьями. Едва обозначенное храпом , спокойное дыхание дремлющего в кресле, сплеталось с легким поскрипыванием кресла, с легким его раскачиванием, с теплым воздухом, с тенью от дерева, с кружением опадающих лепестков и жужжанием шмелей, у других, еще не облетевших, цветов.
С северо – запада протягивало. Не холодом, а запахом холода. Ощущением грядущего не то снега, не то холодного дождя с крупными каплями протаявшего града. В этих краях многое зависит от устойчивого ветра, несущего с севера и по диагонали, чужую погоду, выпадающую вниз или стремительно мелькнувшую высоко в небе. И от времени суток. Вечером тянет с гор близостью ледника и высотой вершин захребетных пиков, точнее, множеством хребтов поседевших великанов, сплетенных в титанической борьбе за главенство над этим миром. Казалось, все затаилось, замерло, приготовилось к переменам. Тихо облетали лепестки, тихо жужжали шмели, тихо покачивалось и скрипело кресло. Само время замедлилось и едва перевалило за полдень.
И, тут, подуло. Резко и порывисто выдохнуло, сдвинуло воздух и пропыленное, полинявшее синевой небо, разогнуло сникшие, одуревшие ветви деревьев, погладило листву, встопорщив ее и наведя милый сердцу беспорядок в этой блеклой прическе. Сместило картинку мира, унесло вдаль и утихло. Январь заворочался в кресле, вдавливаясь в него, не прерывая сна и неги. Кровь быстрее побежала по жилам, лепестки посыпались бодрее и заполошнее, ускорил свой бег муравей на проторенной тропе к муравейнику, оборвалось жужжание и гудение черных и желтых полосок у цветов, сами цветы сомкнулись, сжались, закрылись. И тишина наполнилась ощущением и ожиданием.
Кто – то невидимый снова вздохнул. Вздохнул еще раз. Закрутил пыльные смерчики по дорожкам, посеребрил тени, потревожил тепло, задумался, затаил дыхание. Ненадолго. Совсем ненадолго. И сорвался в бег, свист, вой. Поднял в воздух всю накопленную массу пыли и понес ее, понес. Небо стремительно сморщилось, заполнилось пером и клочьями, заслонило свет и синеву, набухло и нахмурилось, а затем почернело и загрохотало, и понеслось. Стремительно и неотвратимо, в сполохах молний и громком шепоте раскатов, далеких, но быстро приближающихся, мощных, тяжелых. Январь проснулся, потянулся заспанным телом, широко зевнул, огляделся, нахмурился и…
Падали голубиные градины, пробивая крыши, ломая ветви, с тупым стуком распахивая землю, ссыпался дождь снегом, сплошным потоком лилась вода – холодная и блестящая, заливая все вокруг тьмой и холодом. Все вокруг молнилось сваркой и сиянием, резкими тенями Бетельгейзе, по которым с грохотом и визгом, часто и неустанно бил кузнечный молот, вбивая, по шляпки, гвозди и людей, застигнутых непогодой. Со всей своей свирепостью. Варварской и пещерной. Беспощадной и равнодушной. Январской и человеческой.