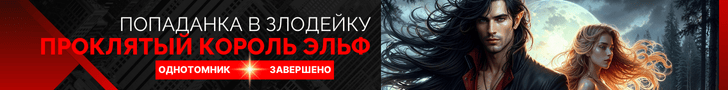Женулечка
Женулечка
Хотелось дать в морду, но рядом никого не было. Тогда он пнул под брюхо собаку, та взвизгнула, и по-рабски поджав огрызок хвоста, молча, отползла в поддиванный бункер. Господин-хозяин упал на подушки, будто умер.
Уже двадцать шесть минут как от него ушла жена, вернее выбежала на мороз в одном халате.
Он медленно приподнял голову. Дым в глазах не рассеивался, а стал вроде гуще и приобрел желтоватый оттенок. Пыльный кордон штор преграждал путь свету. Головой насаженной на шест, на стене застыла тень ночника. Вкруг него, словно посыпанный серой пудрой, летал разбуженный мотылек-стервятник.
«Убить»,– подумал Маруськин.
Было душно. Радиатор работал на полную. Детские колготки, подсыхающие на вертикальной поверхности, распространяли по комнате ядреный аммиачный дух. На кухне из последних сил захлебывался кипятком цветастый чайник.
Еще сегодня утром Маруськин был счастлив. Сидя за чашкой индийского, нахваливал пирожки с потрохами и целовал созвездие родинок под шелковыми завитками на шее любимой женулечки...
Он резко встал, комната пошла плясать. Перед глазами поплыли перламутровые чашки сервиза "мадонна", хрустальные рюмочки, фужеры, бутылки. Чеканный конь на стене рванул галопом по выцветшим кленовым листьям дешевеньких обоев. Маруськин держался за спинку стула и ноги его, казалось, проваливались сквозь пол.
На кухне было влажно, как в тропиках. За запотевшим окном прополз хлебный фургон. «Надо бы занять очередь...» – по привычке подумал он. Нет. Теперь ничего не надо...
На столе лежали мятые клетчатые листочки, вырванные из тетради:
«...сказал сегодня, у него еще не было такой блядской дамочки, и что на вкус я напоминаю киви... я смеялась и спрашивала, что такое киви... крокодила сушеного подарить хотел... и куда я с крокодилом, лучше дубленочку...»
Маруськин достал из кармана спички и подпалил край листка. Бумага моментально вспыхнула, клеенка под ней расплавилась. Резкий химический запах пополз с кухни под дверь прихожей. Трель звонка вывела из оцепенения.
– Маруськин! Ёж пархатый! – орал прапорщик Карданов, настырно колотя в двери. – Ты чо там? Опять пироги пригорели? На развод не опоздай!
Деревянная лестница ещё несколько секунд скрипела под сапожищами, а потом дверь отозвалась глухим хлопком. И все стихло.
Маруськин схватил стоящий на плите чайник и вылил на стол остатки кипящей жидкости.
Семь лет ничего не замечать...
Они дружили семьями. Были соседями и собутыльниками. Младшего Ваньку вынянчили вчетвером. Ваньку...
Перебирая в коробке фотоснимки, он искал тот, где Бирк был снят с Ванькой, с его Ванькой...
Сын прижимал кудрявую головку к плечу Бирка, Бирк держал его на руках. Маруськин вглядывался в лица, пытаясь отыскать хоть малейшее сходство. Как он не старался – ему не удавалось. Скуластый, с чуть раскосыми черносмородинновыми глазенками Ванька, скорее походил на тылового старшину Нахапетова, чем на штабного аристократа Бирка.
Сидя на полу среди разбросанных фотокарточек, Маруськин думал о том, что жизнь кончена. Судьба прошлась по нему многотонным катком, расплющив в одночасье, оставив только глянцевые кусочки былого счастья. С одного из них прямо в глаза Маруськину ласково улыбалась она.
Ночь с восемьдесят пятого на восемьдесят шестой хрустела снежком, светила звездами и ничем особенным не выделялась среди других зимних ночей. Разве, что её объявили первой и украсили мишурой. Мишурой надежд и желаний.
Разгоряченный после выпитого и танцев, Маруськин вышел перекурить на крыльцо клуба. Сквозь моросящую снежную крупку, он увидал маленькую фигурку, приближающуюся со стороны офицерского дома. Ванька! На Ваньке были только колготки и майка. Маруськин подхватил сына, сдернул с вешалки куртку и, укутав в нее дрожащее тельце, побежал к дому.
В висках отзывались куранты, а потом за стеной громыхнул гимн Советского Союза. Тихий Ванька лежал на диване, Маруськин пытался стащить с него прилипшие колготки.
«Не боись, Ванька, прорвемся. Ты ж герой, а герои не плачут!» – успокаивал себя Маруськин.
«Пап, пить...»
Ванькины холодные ручонки сжимали чашку с Коньком-Горбунком, он медленно пил разогретый клюквенный морс, а Маруськин растирал его побелевшие ступни водкой. Потом стал согревать каждую в огромных пылающих ладонях.
«Сикотно!» – захохотал Ванька и сбросил с себя верблюжье одеяло.
«Нет, так не пойдет. Давай-ка спатки».
Он перенес сына в спальню, выключил свет и сел на стул рядом с кроваткой.
«Пап, ты не удёс?»
«Нет Ванька, спи», – соврал Маруськин. Но Ванька для верности зажал в потеплевшем кулачке прокуренный, заскорузлый отцовский палец. И сразу засопел, доверчиво и уютно.
В незашторенное окно на Марускина глядела незнакомая звезда. То, впадая в дрему, то оживая, она чуть раскачивалась над темным куполом полуразрушенной церкви, холодным сиянием венчая храм у бетонной дороги. Зимою снег выбеливал её своды, промораживал кирпичную кладку до блесток. Заиндевевшие стены вспыхивали на солнце, точно отражая мириады зажженных свечей. А летом в её ароматных приделах разгорался шиповник, и в бездыханном полдне гудели пчелиные колокола. С утра, и особенно к ночи, херувимские песни разливались над алтарем, где из лета в лето прирастали силами тощие березовые деревца. Казалось, сама природа справляет божественную литургию на останках престола некогда благословенного храма.