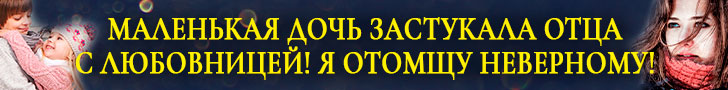Злые травы
Злые травы
У гречанки локоны вьются тяжелыми кольцами и черней воронова крыла. Кожа ее цвета жемчуга – не местной молочно-белой речной зерни, дробно стучащей в пригоршне, но заморского, что в полдень наливается живым внутренним золотом.
У гречанки острый носик, очи, ровно бездонные омуты под Велесовыми кручами, алые губы, серебряный венец в упругих кудрях и звонкие мониста на шее.
Она носит чужеземные платья, шелестящие и сияющие всеми цветами земными. Она вышивает по аксамиту-бархату диковинные соцветия и невиданных зверей, мастерит украшения с драгоценными каменьями, в высоком тереме читает для княгини ромейские книги.
Крещеное имя ее – Агата. Отчего же имени нет у ней вовсе, потому все так и кличут ее: Агата, дочерью Леонидова, из семьи Мелесиниевой, в самом Царьграде рожденная. Отец ее, Леонид, златокузнец и умелец превеликий, приехал сюда вкупе с людьми ромейской царевны Анны – та многих греков привела из Византии на Русь, дабы не заскучать в далеком краю и не страшиться обычаев чужеземных.
Анна - княгиня пресветлая, лебедь белая, в небесах светлых кружащая. Агата вместе с прочими девицами греческими и киевскими служит ей.
Агата строга обликом и взором. Агата христианинка, носит крест золотой, косится удивленно на порядки местные, но помалкивает, ибо невместно гостю осуждать в дому нравы хозяйские. Агата дева высокоумная, осенью замуж пойдет – да не за грека из своих, а за сынка воеводина. Не по отцову велению или княжьему соизволению, по собственному выбору.
Посмел бы кто такой повелеть…
Вот она какая, ромейка Агата.
А у Смышлены - косы цвета осенней листвы вихрем лохматятся во все стороны.
У Смышлены глаза котовьи, круглые в ярую прозелень, конопушки на носу да нрав неповадливый. Груди у нее - налитые яблочки, ноги длинные и быстрые, тело жаркое… только никого покамест тот жар не обогрел, никому приюта и ласки не дал.
Смышлена – девка дворовая. Цельный день с утра раннего до сумерек носится по теремам да хлопочет по чужому хозяйству. Вечерами Смышлена поет, а ночами, когда подружки ее украдкой проливают слезы по княжьим дружинникам, грызет подушку и вспоминает.
Вспоминает, как ромейка идет через двор, по мокрой от искристой росы траве, щурится на солнце и улыбается украдкой чему-то.
Как она хмурит брови – длинные, вразлет. Носик у нее заостряется птичьим клювом, голос становится сухим и звонким, точно трава осока в предзимье. В черных локонах горят серебряные колокольца, качаются, манят быстрыми искорками.
Агата учит девиц низать бисер в пестрые ожерелья, подбирая цвета один к одному, пальцы ее быстро перебирают цветные бусины в плетеных коробах, отбрасывая негодные, с трещиной или облупившиеся. Ромейка говорит на славянском наречии складней многих, лишь порой пришептывает на свой заморский лад. Она ходит слушать девичьи песни, смотрит на хороводные пляски, играет с малыми дочками князя – теми, что от прежних его жен. Бывшие княжьи подруги разъехались, сызнова замуж повыходили, а дети – дети здесь. По новому, христианскому обычаю детей князя от прежних союзов, говорят, надо считать незаконными. Только у кого рука поднимется и язык повернется родную кровь от себя отторгнуть? Нету такого закона и быть не может.
Смышлена в Рода верует. В Ладу прекрасную, в дочь ее, добрую Лёлю. В Мокошь, женскую сподручницу и защитницу. Приносит богиням свои дары – когда белую курицу, когда плат расшитый, когда собранные поутру цветы заветные.
Агата в церкви молится – в той, что недавно выстроили греки. Смышлена стережет, когда ромейка возвращается в терем. Идет через двор с корзиной, глядит в сторону – вроде по своим делам, а вроде бы рядом.
- Смыш-ле-на, что означает твое имя? – любопытствует ромейка. – «Быстрая разумом»?
- Угу, - бормочет Смышлена. Шелковый подол метет траву, сбивает пушистые головы одуванчикам, шлепают босые ноги, переступают узкие сафьяновые туфли. – Такая шустрая, шустрей некуда.
Негоже это, девке мечтать о другой девице – так, как ночами парни сохнут по подружкам, думает Смышлена. Негоже… сладко, томительно сладко, что сердце сжимается – словно холодная ладонь тискает его в кулаке, зажмет и отпустит, а потом опять стиснет, да посильнее, до брызнувших слез. Глупо это. Проку с того никакого. Кобыла с кобылкой не милуется, кобыла жеребца алчет, медведица лесная – медведя бурого, а турица – ярого тура. Всякая живая тварь ищет себе дружка али подружку. Чтобы дом. Чтобы дети. Чтобы боги улыбнулись, взглянув поутру на детей своих.
Глаза у Агаты – ночь темная. Заблудилась Смышлена в ночи. Заблудилась и сгинула. И совета спросить не у кого. Девки дворовые не поймут или смяться начнут, отцу-матери такое знать ни к чему… Вот старая ведунья Чернояда точно выслушала бы. Сказала б, как быть. Каким зельем вытравить из души ромейку. Но Чернояды больше нет на свете, ушла ведунья в леса и не вернулась. Сыскала себе полянку, прилегла там – и сгинула, стала травами и землей, колючей елью и алой брусничной россыпью. Нет Чернояды – и некому направить Смышлену. Бьется она рыбкой на костяном крючке.
- На праздник Купалы пойдешь ли? – спрашивает Смышлена, без надобности приходя лишний раз убраться в комнатах Агаты. У ромейки без смышлениных хлопот в дому чистота, цветы в глиняных горшках, лики святых на позолоченных досках, сундуки да короба с рукоделием.
- Это ваш праздник. Невместно мне там быть, - качает головой Агата.
- Купалина ночь для всех. Так князь говорил давеча, я своими ушами слышала. Приходи, - настаивает Смышлена. - Сколько среди нас живешь, а на Купалу никогда прежде не приходила, - она переставляет шкатулки с места на место, лазоревые бусины гремят, раскатываются по столу, она торопливо сметает их ладонью. – Приходи. Вместе будем, я тебе все покажу и расскажу. Против воли твоей никто тебя не коснется. Все пойдут, а ты что же – будешь одна сидеть, глаза вышивкой протирать?
- Я подумаю, - Агата улыбается, очи ее бездонные полнятся лукавством, нежным и непритворным. Когда она так улыбается, Смышлена замирает на месте и знает, заранее знает – гречанка согласится. Придет.
Купальская ночь коротка и мимолетна. И бесконечно длинна, словно Макошь откладывает свою прялку. Замирает вечно кружащееся веретено, сплетающее Время-Нить.
Купальской ночью костры отражаются в опрокинутой чаше неба. По темным водам плывут наговорные венки со свечами, перемигиваясь с ясными звездами в темнеющих небесах. Луга и леса полнятся голосами – окликающими, зовущими, смеющимися, поющими. Плещется, вскипает вода – русалки купаются рядом с людьми, дети лесные обнимают детей человеческих, целуют, не желая зла, не пытаясь обманом увлечь в темные, прохладные глубины. Крутятся огненные колеса, пары скачут через мечущий кусачие искры огонь, зажимая в ладонях стебельки живокости. Не спи, не смыкай глаз купальской ночью, ищи в зарослях шуршащего папоротника распускающийся багрян-цвет, любись, не спрашивая имени, славь любовью своей богов, ибо и они подтверждают сегодня свой извечный союз.
- То Ярило-Солнце с Зарей-Заряницей сходится, этой ночью они свадьбу празднуют, оттого и ночь такая светлая – день с ночью целуются, - Смышлена болтает ногами над невысоким обрывом, снизу доносится плеск, хохот и девичьи визги. На длинной отмели яростно полыхает костер, кружат танцующие тени. Они с Агатой сидят на переплетении сосновых корней, на черных кудрях Агаты лежит венок – тонкие березовые веточки, туго перетянутые стеблями чернобыльника-полыни. Запах у свежесрезанной полыни острый, пряный, щекочущий ноздри. Платье на Агате белое, тонкого льна, с алой каймой, косы расплелись, взгляд шальной, словно ромейка захмелела от молодого меда. Шальной взгляд, манящий… и горестный, словно видит она нечто, чего видеть ей не положено, да нету силы отвести очи в сторону – вот и смотрит, печалуясь.
- Парилии, - медленно произносит она непонятное слово. – Костры и жертвы.
- Какие жертвы? – не разумеет гречанку Смышлена. – О чем ты? Скот, что у Подола городского собирали – он не для убоя, что ты! Его погонят через сварогово пламя, чтобы скотина не хворала. Чтобы берегини коснулись каждой коровы и всякого коня. Чтобы они долго жили да плодились на радость хозяевам, - она берет Агату за руку, словно бы невзначай, и та не противится. Запястье тонкое, перехваченное створчатым браслетом литого серебра.
- Был такой праздник, - ромейка смотрит на реку, на мельтешение светлых тел в черной пенящейся воде, отливающей лунным серебром. – Давно, в империи. В той империи, что предшествовала нашей, в языческие времена цезарей. В книгах говорится, это было прекрасно… и жутко. Когда все дозволено, когда нет никаких преград, ни раба, ни господина, ни мужчины, ни женщины. Когда весь город пляшет на площадях. Так нельзя. Это дурно.
- Это ты скоро одуреешь от своих высокоумных книг, - сердится Смышлена. Вот опять ромейку понесло невесть куда. Сейчас сызнова примется твердить о том, как скверно и грешно – любиться без законного брака в ихней греческой церкви. Мол, должнО усмирять любые свои желания, эта жизнь – лишь порог перед жизнью вечной, загробной… Словно не живая девка с тобой разговаривает, а высохший монах ромейский, от всего отгородившийся своим крестом да четками кипарисовыми. – Нет в Купалиной ночи ничего дурного. И в любви тоже нет. Любовь - она чистая. Она как… - Смышлена запнулась, глянула по сторонам, сыскала слово пригодное: - Она как тот костер. Ты прыгнешь через него, все дурное в тебе сгорит и пеплом унесется. Здесь так говорят. Так верят.
- Впрямь - Быстрая Разумом, - смеется Агата. – Прости меня. У вас праздник, а я твержу нравоучения. Но пойми и ты меня, - она говорит быстро и торопливо, путаясь в словах и шепелявя. – Мне здесь нравится. Земля, город, река, леса. Здесь лучше, чем в Константинополе. Здесь будут жить мои дети, и их дети, мои внуки и правнуки, но… не хочу я им такой участи. Не хочу, чтобы они вернулись к языческим нравам. Из этого не выйдет ничего хорошего. Поверь мне, - гречанка поворачивается, хватая Смышлену за обе руки, пальцы у нее сильные и холодные. – Это уже было. Я знаю, я читала книги, я видела мир. Ты не ведаешь, что творится в окрестных краях, а я знаю. Знаю историю. Знаю былое. Все, все это – оно так красиво, так ярко, но… - только что ромейка смеялась, а теперь плачет, ночь и огонь дробятся в ее слезах, ползущих по щекам, и Смышлена не выдерживает. Тянется вперед, целуя Агату в губы – мягкие и соленые.
Целует долго. Так долго, что кажется – нет вокруг ничего, только пальцы, стиснувшиеся на запястьях, да вздрагивающие губы, прикипевшие к твоим губам.
Слез в глазах Агаты больше нет. В черных заводях плещутся серебряные рыбы, хороводят, ходят колесом, влекут за собой.
- Молчи, - говорит ромейка. Голос у нее чужой, не свой. Русалий голос переливается водяным звоном на хрустальных окатышах, дрожит озерцом воды в сомкнутых ковшиком ладонях. – Пойдем со мной.
Смышлена встает и идет за гречанкой. Дальше, дальше, через подлесок, напрямую, спотыкаясь о коряги и оступаясь, ежась, когда по босым ногам хлещет крапива. Через лес, полный приглушенных голосов и шепота, к смутно белеющей в темноте березе. Агата жмется спиной к белому стволу, сливается с ним, обрастает корой, обращается из греческой девы – вещим древом. Ветви с прохладными, клейкими листьями гладят Смышлену по лицу, касаются плеч и шеи, обнимают, прижимают крепче, влекут к себе.
- Лада моя, - шепчет Смышлена.
- Агапиа… любимая, - откликается лесное эхо.
Летний звездопад обильным дождем осыпает землю, звезды разбиваются о разлапистые листья папоротников, распускаются тугие почки, пляшет обжигающая холодом искра багрян-цветка, отпирающего клады и сердца людские.
Черные кудри и кудри цвета кленовой листвы по осени.
Сладость меда и горечь полыни под языком. Острая игла вонзается в сердце, неспешно и глубоко пронзая его насквозь.
Далекий раскат зарницы где-то за горизонтом, за холмами, за изгибами огромной неспешной реки. Божий брак свершился, родился Купало – тот, что хранит влюбленных и любящих.
Тело, огнем пылающее под ладонями. Гладкое, упругое, всклень налитое силой и потаенными желаниями – как сок, бурлящий под березовой корой, неудержимо устремляющийся по весне вверх по стволу, оживляющий листья и душистые сережки почек. Как река в половодье. Неловкие поначалу пальцы, жарко, так жарко, что ночной холод не смеет подступить, поджимает хвост, прячется под речными обрывами. Трепет подстреленной птицы, всхлип, мягкая тяжесть груди Агаты, ее соски – как налитые ежевичные ягоды, темные на светлом.
Смышлена не отпустить ромейку. Не может отвести завороженных глаз. Не может шагнуть в сторону и боится – боится того, что Агата оттолкнет ее, велит забыть и никогда больше не вспоминать, велит не подступаться к ней более. Смышлена не ведает, нарушила ли она божьи запреты и обычаи рода, но вот Агата… Агата наверняка решит, что прогневала своего бога – похожего на злого старика, мелочного и подозрительного, как думается Смышлене.
- На прекрасном острове жила когда-то женщина, - не открывая глаз, произносит ромейка. Ее голова клонится набок, точно сползший венок стал слишком тяжел для нее. – Очень давно это было. Она… она слагала песни, а сердце ее было таким огромным, что было готово полюбить весь мир. Сапфо ее звали. Она полюбила подругу – а та сбежала с мужчиной. Она полюбила мужчину – тот изменил ей с ее лучшей подругой. Песни ее больше не полнились радостью, а сердце разбилось. Она вышла из дома, поднялась на скалу и прыгнула вниз, в море. В море, бездонное, как ее любовь, - Агата поднимает ресницы, они дрожат. – Но здесь нет моря, и мне некуда прыгнуть. Да и нельзя. Бог дал мне жизнь, я не вправе выбрасывать его дар.
- Зачем тебе умирать? Живи, - умоляет Смышлена. – Живи, прошу тебя. Ты красивая. Ты высокомудрая. Ты лучшее, что есть в мире. Агата, Агата, скажи, что ты не умрешь!
- Я не умру, - гречанка слабо улыбается, убирает с лица Смышлены рыжие прядки. – Не умру, моя Агапиа. Просто мне жаль, что я не умею слагать песен, как Сапфо.
- Я умею, - чуть смущенно признается Смышлена. – Хочешь, я придумаю тебе песню? Я все сделаю, все, что захочешь!
- Никогда не смей так говорить, - неожиданно строго обрывает ее ромейка. – Никогда не предлагай променять свою жизнь на чужое желание. Это очень легкомысленно и глупо, - она осторожно высвобождается, подбирает свое платье, промокшее и позеленевшее, сокрушенно цокает языком. – Я возвращаюсь домой. И не хочу, чтобы ты шла со мной. Мне нужно подумать, - земля качается под ногами у Смышлены, болото затягивает ее, а одевающаяся ромейка добавляет: - Я не гневаюсь, нет. Я хочу, чтобы ты оставалась моей подругой… просто мне нужно побыть одной. Спросить Господа. Подумать, понимаешь меня?
- Да, - кивает Смышлена, не веря своему счастью.
- Ты же Быстрая Разумом, Агапиа, - Агата чуть растерянно озирается по сторонам, соображая, в какой стороне город. Она уходит, прямая и легкая, хранимая неколебимой верой в то, что небеса позаботятся о ней и никто в мире не замыслит против нее ничего дурного. Уходит сквозь пробуждающийся лес и рассветный туман, Смышлена смотрит ей вслед – и падает на колени.
Падает, торопливо обрывая траву вокруг, разглядывая стебли и соцветия, отшвыривая ненужное. Она ползет на карачках вокруг березы, выискивая, бормоча, косясь на светлеющие небеса. Ночь еще не кончилась, солнце не взошло, чародейство земное еще творится, наполняя травы и коренья неведомой силой. Смышлена яростно копается в жирной лесной земле, пальцами выкапывая глубоко засевшие корни, вытаскивая их, запихивая в перепачканный подол, мотая головой и отбрасывая лезущие в глаза спутанные волосы.
- Не бывать тому, - тихо, яростно твердит она. – Не бывать. Не пойдет моя Агата замуж. Моей будет. Изведу любого. Моя она. Ничья, моя.
Она неловко встает, придерживая подол – и травы рассыпаются. Собранные ею на чужую погибель злые травы Купалиной ночи.
Смышлена беззвучно плачет. У древесных корней лежит оставленный Агатой венок – полынь сплетается с березовыми листьями.