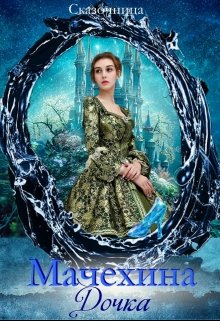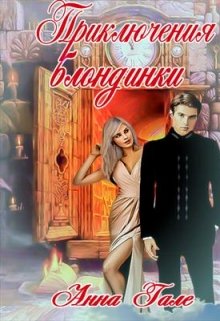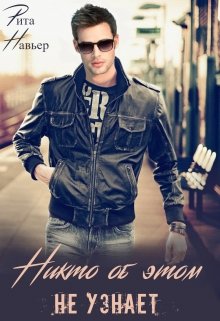Знаменитость деревни Авдеевки
Знаменитость деревни Авдеевки
Дядя Миша Пустовалов был худ, жилист и бородат. Бороду он отпустил по приказанию своей жены тети Любы, чтобы не пугать лишний раз окружающих: лицо у него было очень костлявое, с возрастом его еще и туго-натуго обтянуло сухой желтоватой кожей, и в сумерках оно напоминало череп в парике. Внучок-эрудит Пашка однажды привез в деревню растрепанную книгу под названием «Аболиционистское движение в США» и ткнул в один портрет: «Смотри, деда, ты похож на Авраама Линкольна!». «Какого еще Абрама?» – нахмурился Пустовалов, но, узнав, что это один из самых знаменитых американских президентов, молча сгреб книгу с лиловым штампом букинистического магазина и пошел на огород – показать жене. Тетя Люба полола морковь и от неожиданности вздрогнула, когда огромная костлявая фигура загородила ей солнце. «Ты что, старый, ошалел?» – рассердилась она, когда узнала мужа. Пустовалов открыл книгу и гордо помахал ею перед самым носом тети Любы. «Ой, какой страхолюд!» – жалостливо вздохнула супруга. «Замечаешь что-нибудь?» – не отставал муж. – «Иди, иди отсюда, не мешай. Что я, уродов не видела?»
Эти слова дядя Миша однозначно истолковал в пользу своего сходства с Линкольном. Одно его огорчало – до славы американского президента ему было слишком далеко. По вечерам он иногда усаживался с книгой на завалинку и до самой темноты прилежно смотрел в ту самую страницу, мусолил немытыми пальцами уголки и предвкушал, как кто-нибудь из прохожих поинтересуется, что это он читает. Завидев приближающегося местного жителя или хотя бы дачника, он крякал, хихикал или пытался изобразить на лице крайнюю степень изумления и восторга. Но никто его ни разу ни о чем не спросил, хотя вид читающего дяди Миши являл не самую привычную картину для деревни Авдеевки.
Зато с легкой руки Пашки по деревне прошел слух, что в молодости Пустовалов был лесорубом. Пашка, видимо, рассказал кому-то про Линкольна, а слушатели решили, что про деда, и все поверили. Сильное и нескладное тело Пустовалова было как будто специально создано для ватника, длинные ноги несли его, как лося, через непролазные чащи, а рукам сама судьба назначила дружить с пилой и топором.
На самом деле Пустовалов всю жизнь проработал на инструментальном заводе кладовщиком. За топор он всерьез взялся только на пенсии, когда тетя Люба уговорила его переехать на дачу и зажить своим хозяйством. Деньги от сданной на полгода вперед городской квартиры она тут же пустила в дело: купила два десятка подрощенных цыплят, поросенка, пару молодых коз и еще козла – этого последнего потому, что отдавали очень уж дешево.
Все хорошие покосы в деревне были давно уже поделены между старожилами. Пустоваловы получили левый берег реки с сочным заливным лугом, но, к сожалению, с мостками для купания. К ним летом в выходные съезжались машины, полуголые парни и девки мяли траву, жгли костры посреди луга, оставляли после себя кучи пластиковых бутылок, пивных банок и полиэтиленовых мешков. Уже в воскресенье вечером, когда опустел берег, дядя Миша поплевал на руки, пошел с тетей Любой в лес и натаскал тонких жердей. Потом, как сумел, обтесал колья, вогнал их в землю и отрезал «пляж» от своего покоса легкой изгородью.
В ближайшие выходные упившийся пляжный народ разобрал эту изгородь по жердинке и пустил на дрова для своих мангалов. Дядя Миша скрежетнул зубами и сказал тете Любе, что с этими козлами он воевать не собирается, косить вытоптанный и загаженный луг не будет, и пусть она осенью делает со своей скотиной что хочет – хоть продает, хоть отправляет на колбасу. Жена приосанилась и достала из фартука ворох купюр, вырученных только за нынешние субботу и воскресенье. Дела с козьим молоком у нее пошли довольно бойко, потому что, во-первых, она была женщина опрятная и веселая и со своим маленьким прилавочком, заботливо прикрытым от солнца и мух, сразу располагала к себе приезжих, а во-вторых, городские жители, спасибо рекламе, свято верили в целебность козьего молока и охотно брали его для детей. Многие советовали тете Любе научиться делать из него если не сыр, то хотя бы творог, обещали стать постоянными покупателями… «Хрен тебе, Пустовалов! – отчеканила она. – Подумаешь, лень ему еще раз покос огородить. А козлов мне не обижай. Они умные и благодарные, не то что некоторые… гм… люди».
Отныне дядя Миша с плохо спрятанной в глазах ненавистью ко всему белому свету раз в неделю подновлял изгородь, а тетя Люба тут же на мосту продавала козье молоко и творог тем же самым туристам, которые бесчинствовали на их будущем покосе. И все с ее точки зрения шло нормально. Но наступил предел и дяди-Мишиному терпению.
В пятницу утром он выбрал кол покрепче и подлинней, вогнал его в землю кувалдой так глубоко, как сумел, а к нему прибил фанерку от ящика. Потом взял у жены банку с остатками коричневой эмали, ссохшуюся кисть, и вывел своей рукой, непривычной к каллиграфии: «ЕСЛИ КОГО УВИЖУ ТОПТАТЬ ПОКОС УБЬЮ». Пустую банку швырнул под откос. Хмыкнул, придирчиво оглядел свою работу. Чего-то не хватало, но чего именно – дядя Миша не мог сообразить. Он плюнул себе под ноги и зашагал домой. Ночью долго ворочался без сна. Панцирная сетка кровати звенела и раскачивалась, и усталая тетя Люба несколько раз больно двинула мужа локтем в бок. «Я покурю, может, тогда усну», – прохрипел Пустовалов и вышел из горницы.
Он долго стоял на крыльце. Смотрел на светлое июньское небо, на туман над ближним лесом, на сползающую к горизонту серебристую луну с недоумением человека, который всю жизнь смотрел исключительно под ноги и первый раз в жизни разогнулся. Его сердце колотилось, подгоняемое неведомой силой. От выкуренной папиросы он зажег следующую, и тогда в голове раздался какой-то щелчок. Дядя Миша толкнул калитку и пошел на берег. Там он еще немного постоял возле своего произведения. Потом сунул руку в холодное кострище, достал уголек, вывел под своим предупреждением только одно слово – «СРАЗУ». И поставил жирную точку – с силой вдавил уголь в деревянный щит.
Дядя Миша не понял, что его смешная неграмотная угроза только что обрела законченность и лаконизм и перестала быть лишь курьезным недоразумением – в ней появился отзвук высокой трагедии. Он всего-навсего почувствовал, что стеснение в груди у него прошло и в боку колоть перестало: беспокойный дух творчества, сделав свою работу, вылетел на простор и зачастил крылышками, оглядываясь в недоумении на кладовщика-пенсионера, которого он заставил единственный раз в жизни испытать тоску от собственного несовершенства, муки творчества, катарсис, счастье самовыражения.
С тех пор туристы больше не ломали изгородь Пустоваловых. Они фотографировались на ее фоне. Иногда – вместе с автором. И дядя Миша стал знаменитостью. Пусть не как президент Линкольн. Но для масштабов деревни Авдеевки это было лучше, чем ничего.
А тетя Люба продолжала разводить коз. Деньги позволяли ей теперь обходиться без помощи зазнавшегося супруга: сено ей косили сезонные рабочие из южных республик, они же поправляли изгородь. Когда первый ее козел, названный в честь героя бразильского сериала «Секрет тропиканки» Маркусом, издох, она завела другого. Так как в это время шел сериал «Новая жертва», козел получил имя Марселло, или Марсик, что было привычнее для деревенского уха. На третью зиму Марсика задрали волки. Хозяйство росло, на сериалы у тети Любы времени оставалось все меньше. Потом бразильские сериалы совсем прекратились и героев с экзотическими именами не стало. Ее новое рогатое приобретение стало зваться просто Мартын.
Этого Мартына за вонь и дурной, приставучий характер через несколько лет кто-то пристрелил. Тетя Люба долго плакала, а потом съездила в соседнюю деревню и вернулась с козленком. Назвала его Матвеем. И когда по утрам она гнала по деревне козье стадо, выкрикивая с чувством: «Матвей! Матюшка! Опять отстаешь, тварина ты рогатая», ни у кого, кроме дяди Миши Пустовалова, не было сомнений, почему это тетя Люба упорно покупает козла за козлом и всех называет на одну и ту же букву алфавита…