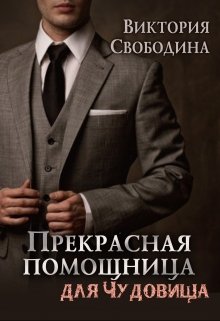Искра на скале
Искра на скале
И что тому костер остылый,
Кому разлука — ремесло!
М. Цветаева
Она не была русалкой. Иногда я думаю о том, а была ли она? Или память услужливо подменила мои воспоминания, чтобы прибавить жизни чего-то такого, чего ей недоставало. Приправить ее дорогой специей, которая сперва одурманивала ярким запахом, врезаясь во все чувства, потом быстро развеивалась в воздухе, перебиваемая другими специями, а в итоге оказалась единственной, которую помнишь и годы спустя.
Я родился и вырос на крохотном острове-государстве Рошделамер в южных водах Вертийского моря. Мой прадед основал порт Рош и первое поселение у берега, смотревшего на материк. Мой дед хранил ключи от города Рош, выросшего на месте поселения, и разросшегося по всему острову. Мой отец стал называться королем Рошделамера – королевства из ракушечника и извести, добываемой у подножия скалы.
Ребенком я смотрел, как корабли подходят к острову, и думал, что мы всемогущи – их белые паруса словно бы тянутся к тому, что только мы можем дать. Пристань, воду, пищу. Иначе они скитались бы по морю, покуда вода не вынесла бы их, обессилевших, на рифы. Так мне, ребенку, казалось. И в том была доля правды. Рифы были непроходимы. А лоцманы Рошделамера были лучшими во всем Вертийском море. Как и сам Рошделамер – единственное место, где можно было получить приют, покуда не доберешься до большой земли.
Юношей я учился корабельному делу, поскольку прадедом роду было завещано: «Король должен уметь начинать сызнова там, где все кончено». И я натирал мозоли так, что боялся потом поднять вилку за королевским столом, и уставал так, что засыпал на светских приемах. К двадцати годам я мог смело называться капитаном, который может провести судно, не налетев на рифы.
Мужчиной я возглавил флот Рошделамера. И пока отец мой правил королевством на скале, выступающей из волн морских, я укрощал эти волны.
И подчас мне казалось, что я укротил саму жизнь.
А потом жизнь, которая жестоко мстила бездарным укротителям, привела меня к Этинселль.
Я помню тот день в деталях, хотя и сейчас не уверен в том, что он был, этот день. Давно… бесконечно давно. Множество жизней назад. Жизней, пересказанных чужими людьми, которые не представляли… которые не имели понятия о том, кем она была для меня.
Вот я… Мне двадцать семь лет, и я ношу синий китель капитана, расшитый золотом, с золотыми же пуговицами и эполетами. Я стою у пристани на Большой земле и смотрю на свой новый корабль, построенный здесь по моим чертежам. Король приказал назвать его «Сиреной». И я люблю его всей душой. На свете не существует корабля красивее и лучше его. Я поднимаюсь по трапу на борт. Я следую на капитанский мостик. Я впервые касаюсь его штурвала – он был украшен изумительной резьбой, какую никогда не повторит ни один мастер.
Я веду судно к дому, к своему маленькому острову, у которого я должен показаться, красуясь на солнце, сверкая парусами, под звуки оркестра, встречавшего принца на берегу. И самому себе я кажусь величественным и великим. Но оказываюсь жалким и ничтожным.
«Сирена» погибла.
Волны подхватили ее. Волны накрыли ее страшной стеной, которой сопротивляться было нельзя. Волны подняли ее над водой. И волны же обрушили ее на рифы, которые я проходил десятки раз. Десятки раз, но не в шторм.
Потом я был щепкой. Меня несло по воде. И я уже не был жив. Не было ни воздуха, ни света. Были чернота и вода, которыми я захлебывался. Потом меня не стало вовсе.
И там, где не было ничего, загорелась крошечная и такая хрупкая искорка. Сначала она была далеко-далеко, едва мерцая, но заставляя меня цепляться за ее свет. Затем искорка стала приближаться, заскользив вниз, и я вдруг понял – она спускается со скалы. Я считал глухие удары сердца в груди, обнаружив вдруг, что сердце во мне еще бьется. А искорка становилась все ближе и ближе с каждым ударом. И вот она уже превратилась в тонкую женскую фигуру в белом платье и черном переднике. Она склонилась ко мне, и я сумел разглядеть ее лицо. Его хорошо было видно в свете фонаря, который она держала в руках. Свет был неровным, создавал причудливые тени, словно бы плясал по ее коже. И заставлял тонкие и прекрасные черты оживать. Я навсегда запомнил ее глаза. Много лет спустя такими, какие они были в то мгновение, эти глаза являлись мне во сне. В них жило море – зеленоватое, как Вертийское у берегов Рошделамера. Холодные – будто вода в апреле. И невозможно грустные – быть может, от предчувствия? Я думал с тех пор не один год о том, можно ли предчувствовать судьбу? Она ее знала заранее. И вместо начала начал видела только начало конца.
Она ничего не сказала тогда. Она коснулась моей груди – сначала робко, потом настойчиво стала давить на нее обеими руками, желая выпустить из моих легких воду. Вода вышла легко. Я кашлял, она гладила мои волосы, успокаивая. И продолжала молчать. Потом стала ощупывать руки и ноги, словно проверяла, повреждены ли члены.
- Все хорошо, - выдохнул я, едва смог говорить, но она ничего не ответила мне. Она встала с песка и бросилась прочь, оставив возле меня фонарь. Но один я лежал там недолго. Через несколько минут она привела людей. Те при виде меня охали и почтительно кланялись, приветствуя меня, как полагается приветствовать принца. А я искал в толпе ее удивительные глаза. Потому что я тоже знал – мне не будет покоя без нее.
Меня привезли в замок.
Вместо «Сирены» я явился один. Из команды никто не выжил. Королевство погрузилось в траур. А я впервые в жизни наряду с другими чувствами испытывал чувство вины. Мне было больно, что я жив один, вместо тех, погибших. Будто бы долей моей было утонуть вместе с ними, и я оплакивал себя самого. На панихиде я не мог сдержать слез. Король же был стар. Ему прощались его рыдания. Вместе с нами рыдало все королевство. Сто душ остались на дне Вертийского моря. И никогда им не увидеть солнечного света и красных крыш Роша.
Дни потянулись тоскливо и тихо. В порту я больше теперь не бывал. Судна из других королевств встречал кто-то другой. Я же замер в той ночи, которую в народе прозвали Ночь скорби. Как странно… В Ночь скорби я обрел мерцание света в черноте.
Я пытался ее искать. Но многое ли сумеешь, не зная имени?
Мне оставались вино и округлые груди и зады продажных женщин. Даже если те были придворными дамами.
Я превращался в тень от себя, прежнего. Тугое тело становилось слабым и безвольным. Острый взгляд сделался мутным и едва живым. И я не думал о том, что утрачиваю честь и достоинство. Я не думал вовсе.
К исходу второго месяца такой моей жизни король затеял охоту. Северная сторона Рошделамера была покрыта лесами, в которых водились дикие звери. В юности я любил охоту. Но давно забросил это занятие. Море привлекало меня неизмеримо сильнее. Теперь же оно вызывало одно отвращение. И самое гадкое было в том, что куда ни посмотришь – кругом было море.
Это был второй день, когда я видел ее. И первый, когда я сделал ее своей.
Я помню, как гнал оленя, вырвавшись далеко вперед от прочих. Я помню, как в дерево прямо перед моим конем ударила молния. Дерево вспыхнуло, а конь дико заржал, испугавшись шума. Я не боялся. Я думал об искре. Потом рванул из неба дождь. Сплошной стеной. И этот дождь был повсюду, он отдавался страшным шумом, ударяясь о землю, о камни, о воду вокруг острова. Он потушил вспыхнувшие ветви, а я ненавидел его.
Я пришпорил коня и зачем-то бросился в чащу, словно ища там защиты.
Как странно. Там я нашел ее.
В маленьком домике среди зелени, в котором теплилась жизнь.
Домик был в стороне от охотничьих троп, будто его обитатели боялись быть потревоженными. Но мне ничего не оставалось, как потревожить их.
Я ворвался туда без стука, едва ли думая о приличиях, но замер на пороге. У очага, искрившего от подкипавшей в котле воды, сидела девушка со скалы. Она вздрогнула от шума, повернула ко мне свою темную головку и беззвучно раскрыла маленький рот, прикрыв его ладошкой. А я никак наглядеться не мог в ее невозможные и такие родные глаза.
- Кто ты? – спросил я.
А она молчала.
- Как ты здесь оказалась? – спросил я.
А она молчала.
- Если я тебя поцелую, ты не прогонишь меня? – спросил я.
А она молчала.
Потом встала с пола. Подошла ко мне, близко-близко, так, что коснулась острой высокой грудью моей груди. Обвила руками шею. И прижалась губами к губам. И меня опалило ее любовью. Увозил я из лесного домика женщину, сделавшуюся моей, и завладевшую мною безраздельно.
Она была немая. Я назвал ее Этинселль. На языке с Большой земли это значило «искра». Ей понравилось ее новое имя. И она отзывалась на него, будто так звали ее с самого рождения. Стоило мне сказать: «Этинселль! Поди-ка ко мне!», - и она бросала все на свете, и бросалась в мои объятия. Садилась ко мне на колени, терлась щекой о мою щеку, и я знал – она любит, когда я не бреюсь, любит чувствовать, как кожу ее чуть царапает жесткая щетина.
Я одел ее в шелка и парчу и отвел ей покои возле своих. Но Этинселль никогда там не спала. Ночами она сворачивалась у моего бока, спиной ко мне, прижимаясь обнаженными ягодицами к моему бедру. И тихо дышала, чуть сопя носом, заставляя меня понимать, что я жив, когда она дышит.
Любовь ее была страстной, жаркой. Такой любви слов не нужно. Она отогревала меня ночами. Она доставала до самой души моей, которая, я думал, умерла вместе с «Сиреной». И душа моя рвалась ей навстречу.
Как я любил ее!
Такой любви я не ведал прежде. Она казалась мне нерушимой и непреложной.
Днями мы бродили в вечно цветущих садах вокруг замка. И не слышали шепота за нашими спинами.
«Принц не тот, что был до крушения!»
«Принц обезумел!»
«Принц привел в свой дом немую!»
«Принц, того и гляди, назовет ее королевой!»
Все эти слова не касались нас, они были не о нас. Она не замечала их. Я не слышал их. Если в жизни бывает счастье, то мы были счастливы тогда, и никогда больше.
Однажды утром она впорхнула в мой кабинет, где я давно уже не работал, но только лишь делал вид, что черчу новый план корабля. Она долго и озадаченно смотрела на каракули на пустом листе бумаги, и красивый высокий ее лоб хмурился. Она была недовольна мною. Но что ж тут поделать? Я сам давно собой доволен не был. И только возле нее забывал о том, как ничтожен.
Этинселль провела ладонью по бумаге, но я перехватил ее пальцы и быстро поднес их к губам.
- Тебе не нужно этого, - негромко сказал я.
Она лишь мотнула головой, а я залюбовался тем, как волосы заструились по ее спине и плечам. Я просил ее никогда не плести кос и не делать высоких причесок, как у придворных дам. В каждом жесте ее были свобода и красота. Потом она бросилась в свою комнату и вернулась оттуда в новом платье, подаренном только накануне. Такие носили богатые горожанки в Роше, когда отправлялись делать визиты. Оно было из бледного шелка, с газовыми рюшами на груди. При ней были шляпка и зонтик, и мне сделалось смешно, до чего теперь она походила на куклу.
Она взяла меня за руку и повела из замка. Я подчинялся ей, как подчинился бы самой жизни. Мы шли по улицам Роша, а люди, оглядывались на нас, кланялись и поджимали губы.
Она привела меня на пристань, в порт. И заставила долго-долго смотреть на море. Я вдыхал и выдыхал соленый воздух, а на глаза мои наворачивались слезы – от боли. Мне больно было видеть цвет его, волнение его, сияние его. Еще больнее было видеть белые крылья парусов флота Рошделамера. Моего флота. И в тот момент, когда я хотел отвести взгляд, не умея совладать с болью, я понял, что не смотреть на это все не могу. Потому что море и корабли – это моя жизнь. Это я сам. Это больше, чем что-то на свете, что могло бы тронуть меня и оставить след в душе. Может быть, это было больше, чем Этинселль. Но вот в чем правда – Этинселль отныне становилась частью этого.
Я не видел людей, глядевших на нас сурово и с осуждением. Как странно, что я ничего не видел, но будто прозрел.
В тот же день я вернулся к командованию флотом. В тот же день я вернулся к чертежам нового корабля. Тому кораблю, который был еще только в моих мечтах, я собирался дать имя сам.
Но самое страшное в том, что в тот же день в душу мою прозревшую поселили сомнения.
Секретарь, обрадованный моим возвращением к делам, вдруг осмелился сказать мне: «Ваше высочество! Она прекрасна, но она немая! Истинная же красота не имеет увечий!».
Я лишь рассмеялся его словам. Что мог он знать о красоте?
Потом был слуга, любивший меня с детства. Иногда вместо отца. Он стоял возле меня, сжимая в руках поднос, и тихо говорил: «Если уж вы вернулись к делам… Ваше Высочество! Одумайтесь и в этом! Про нее говорят, не к добру она появилась! Зло в ней, говорят!»
Смеяться над его словами я не мог, это ранило бы старика. Я мягко велел ему уходить, а потом долго смотрел, как огонь танцует в камине.
Явился отец.
«Отсели ее от глаз чужих подальше – дом за замковой стеной пустует давно. Там живут женщины королей, но не королевы. Люди не понимают, волнуются люди!»
А мне была невыносима мысль о том, что Этинселль не могла стать королевой. Но отец был прав. Было королевство, которое ждало королеву. И я приказал приготовить тот дом, готовясь к тому, чтобы сказать Этинселль, что теперь сам стану приходить к ней.
Но того не понадобилось.
Прошло три дня. И епископ объявил, что она – посланница самого дьявола. Теперь уже на улицах вслух говорили: она русалка, завлекавшая наших матросов в пучину, она волновала море, она в Ночь скорби утопила «Сирену», она лишила разума принца. Они хотели судилища. Они шумели давно. Просто теперь уже я стал слышать. В тот момент, когда я вернулся, я уже не мог не слышать того, что они говорили.
И вспоминал, как со скалы спустилась искра. И искра эта казалась волшебной. Отчего выжил только я? Отчего я не провел их через рифы, когда делал это десятки раз? Нет, это не могло быть взаправду. Это колдовство, чары!
Я помню, как снова надевал китель.
Я помню, как причесывал волосы.
Я помню, как шел к ней.
Она сидела в своей комнате, будто ничего не случилось. Но не могла ведь она не слышать? Господи! Не могла! Этот шум за стенами был невыносим! Он терзал меня днем и ночью!
Этинселль, как всегда это делала, вскочила с подоконника, на котором привыкла сидеть в мое отсутствие. Подбежала ко мне. Порывисто обняла мою шею, прижавшись ко мне бедрами, руками, ногами. И стала быстро целовать мое лицо – чтобы дотянуться до него, ей приходилось стоять на носочках.
Я отстранил ее от себя. И заглянул в ее глаза цвета Вертийского моря.
- Кто ты? – спросил вдруг я, не понимая, что то же я спрашивал в домике в лесу, но тогда мне не нужны были ее ответы, а теперь я нуждался в них, будто в воздухе. – Как ты здесь оказалась? Отвечай!
Она молчала. Она была немая. Как могла она говорить? Этинселль лишь улыбалась и прижималась губами к моим губам, словно желая заставить меня замолчать.
- Люди говорят… - снова и снова шептал я, размыкая уста, прекращая ее поцелуи, - это ты утопила «Сирену»… Ты ведь русалка… ты не терпела второй «Сирены» в Вертийском море… Зачем ты оставила меня, если забрала их всех? Ответь, Этинселль, ответь!
Она снова молчала. Она смотрела на меня так, будто вынимала из меня душу. И снова тянулась за поцелуями. Но я отпрянул. Я оттолкнул ее. Я воскликнул:
- Оправдывайся! Черт тебя подери, оправдывайся! Скажи хоть слово!
Но только слезы лились теперь по ее щекам, а на губах играла улыбка. В улыбке было много горечи. Она словно не верила тому, что слышала. Потом она медленно подошла к окну. Плечи ее тряслись от рыданий. Рыданий беззвучных. Она была немая. Всем известно – русалки поют только в воде. На суше они и говорить-то не могут.
В тот день ее забрали стражи епископа и заточили в темницу.
К утру следующего дня в темнице ее уже не было. И никто не знал, как она исчезла – выйти оттуда было нельзя.
«Я же говорил! Сам дьявол вывел ее оттуда, клянусь! Ну да мы изловим ее!» - сотрясал кулаками епископ.
Потом еще долгие месяцы, бросая в море сети, рыбаки все ждали, что сама русалка, бывшая любовница принца, попадется в них. И дадут им большое вознаграждение, да и будет чем похвастаться за кружкой доброго вина в тавернах Роша.
Шло время, и я стал забывать ее. Моя память постепенно покрывалась слоем пыли. Но это и к лучшему. Потому что в сердце и душе все еще оставалась рана, которая не желала затягиваться. Она пылала огнем, гнила, разносила заражение по всему телу. Видимо, заражение отравило и память. Потому что потом я уже делал вид, что удивляюсь, как это русалка заманила меня в свои чары? Я не помнил объятий, не помнил поцелуев, не помнил наших жарких ночей. Все, что я помнил, это ее глаза – холодные, зеленые, будто Вертийское море. И в этих глазах играли искорки от фонаря, что она сжимала в руках, когда нашла меня. Каждую ночь я видел их во сне.
Через два года я снова стоял на Большой земле и смотрел на новый корабль, построенный мной по моим чертежам. Имя этому кораблю я дал сам. Его звали «Мананнан» - как бога моря у народов Севера. Этот корабль был красив и величественен. Второго такого нигде на воде не существовало. Рука об руку со мной стояла моя невеста, Фуар, дочь народов Севера. Она была прекрасна, и второй такой на земле быть не могло. Я любил ее. И ждал того дня и часа, когда назову своей женой. Потому что так было правильно, потому что согревать мою постель без венчания эта женщина никогда не стала бы. А я отчаянно нуждался в том, чтобы меня отогрели, потому что теперь мне казалось, что я отлит изо льда. И мысль эта странная терзала меня день ото дня все сильнее.
Мы плыли на «Мананнане» домой, в Рошделамер. Нас встречали тушем, который играл оркестр в порту. Потом Фуар облачилась в белоснежные одежды и епископ венчал нас в соборе, построенном когда-то давно на вершине скалы – выше королевского замка, выше всего на земле, как то положено божественному.
На ночь мы поднялись на борт моего корабля, чтобы продолжить пиршество там. Видеть с моря остров Рошделамер было прекрасно – на горел огнями всех возможных цветов. Он был убран пышными букетами. Он извергался в небо яркими красками фейерверков и звучал музыкой, написанной в честь нашей свадьбы. Вино лилось рекой. Море превратилось в россыпь чудесных звезд. Улыбка сверкала на прекрасных губах Фуар. И я целовал эти губы, впервые чувствуя счастье за эти долгие месяцы одиночества.
Потом мы остались одни. В каюте капитана. Здесь пахло розами и шоколадом. Шелковые простыни были усыпаны лепестками. И в этой белоснежной сияющей пене утопала женщина, ставшая моей женой. Это с первого дня была борьба. Борьба, чтобы завоевать ее любовь, борьба, чтобы получить право назвать ее невестой, борьба, чтобы убедить ее жить в Рошделамере. Теперь местом борьбы стало наше ложе. Никогда и никого не нужно было укрощать так, как ее. Ни море, ни шторм, ни ветер, ни людей вокруг, ни себя самого.
И когда она, успокоенная и затихшая, уснула на моем плече, я вглядывался в провал иллюминатора, за которым искрились звезды, и не мог объяснить даже себе, отчего чувствую себя опустошенным. Отчего хочется вопить, что меня обманули, что все не то и все не так? Я смотрел на спящую Фуар и искал на ее лице… Господи, я не знал, что искал, но если бы нашел, я бы знал точно, отчего разрывалась моя душа.
Я заснул, будто провалился. Сон был тяжелый, удушающий, он заставлял меня чувствовать морскую соль на губах, а легкие – разрываться оттого, что в них попала вода. И вокруг было черно-черно, вязко-вязко, и я знал, что не выберусь. До тех пор, пока не увидел, как замерцала искорка где-то далеко от меня.
Я проснулся. Рывком сел на кровати. И в ужасе смотрел на женщину в черном платье передо мной. В черном платье и белом переднике. Она же глядела на меня, и взгляд ее зеленых глаз был холоден и неподвижен.
- Этинселль! – выдохнул я и рванулся к ней. Она же предостерегающе выбросила вперед руку. В руке ее вместо фонаря блеснул острый кинжал.
- Этинселль…
Она перевела взгляд на женщину, лежавшую на моей подушке, и губы ее искривились в страдании.
- Что же ты наделал, бедненький мой? – сказала она, впервые разомкнув уста, и голос ее был подобен шепоту моря.
И я в ужасе вдруг увидел себя со стороны. Не того, кем я был, а того, кем я стал. Ничтожнее, чем теперь, я быть уже не мог. Потому что самого главного во мне не осталось.
- Ты поверил их словам, но не поверил мне, - снова заговорила она, но теперь уже я онемел. – Я вымолила тебя тогда у моря. Твоя жизнь в обмен на мою. Но это было неважно, я ведь любила тебя. С того мгновения, как увидела на «Сирене» в твоем кителе с золотым шитьем. Теперь час расплатиться. Что же ты наделал, бедненький мой? Я ведь убить тебя не смогу.
- Этинселль! – сорвалось с моих губ. Она резко склонилась надо мной и заглушила мой вскрик поцелуем. Я закрыл глаза и думал о том, что душа моя прикипела к ее – на века, не разрубишь. Там, в этом поцелуе, я живу и теперь. Потому что не было ничего до, не было ничего после. Быть может, все прочее я просто придумал.
Когда я открыл глаза, передо мной оставалась чернота ночи. Этинселль исчезла. Я вскочил с постели и бросился прочь из каюты, на палубу. Но и палуба была пустой. Лишь вповалку спали матросы, не добравшиеся до кают. Я бежал, сломя голову к борту, словно знал точно – она бросилась в воду. Она ведь русалка? И, оказавшись у борта, вцепившись в него пальцами так, что стало больно, я лишь увидел белый передник, который неспешно перекатывали волны.
- Этинселль! – завопил я, не чувствуя в себе ни капли жизни или огня. Последний огонь забрала с собой та, которую я любил, и которую я предал. Крик мой еще звучал в воздухе, проносился над кораблем, поднимался к белоснежным парусам «Мананнана». А я уже думал о том, чтобы перемахнуть через борт и либо найти в воде ее, либо утонуть самому, как должен был годы назад. Но в ужасе замер. Крик мой сменился страшным стоном. Казалось, это стонет море. Нет, будто из недр земли сквозь толщу воды прорывался этот страшный стон. И на глазах моих, на глазах моих, не желавших видеть, но желавших смерти, медленно, будто пробуждаясь от векового сна, скрипя и скрежеща, остров Рошделамер стал проваливаться под воду. Камни сыпались с его вершин. Собор раскололся первым и рухнул в море – будто могло спасти его то, что он был ближе всех к Богу? Сплошным страшным криком зашелся остров – вой и плач я и теперь иногда слышу, когда остаюсь один. Небо пылало рассветом, а Рошделамер сыпался на куски и уходил в море. Там оставался еще мой отец. Там оставался еще мой старый слуга. Там оставалось еще то, что было мне дорого.
А потом наступило прозрение. Умерла Этинселль. И умерла скала. И вместе с ними умер я сам.
Мы спасали людей, дрейфуя еще долги часы вокруг места, которого больше не было. Мы вытаскивали из воды тех, кто все еще были живы. Мне запомнилось то, что только одна семья на нашем корабле не потеряла никого – выжили все. Это были юноша, девушка и их маленький сын. Он взобрался на колокольню, торчавшую из воды, и помог забраться туда своей жене, державшей голову новорожденного ребенка над водой тогда, как сама почти уже выбилась из сил. Я смотрел на них очень долго. Я каждый день ходил смотреть на них, покуда не добрался «Мананнан» до Большой земли. И потом, сколько мог, я навещал их.
С тех пор прошло так много бессчетных лет. А я все брожу по суше, не смея заходить в воду. Потому что всякий раз, когда вижу море, начинаю истошно кричать: «Этинселль!»
Будто надеюсь, что здесь и сейчас родится новый остров, где будет жить девушка в белом платье и черном переднике.
Фуар считала, что я обезумел. И не пускала меня туда, где волны могли напомнить мне о гибели моего королевства. Потом и Фуар состарилась и оставила меня.
И вот я, глубокий старец, не знающий, было ли все это? Был ли город Рош на острове? Было ли королевство Рошделамер? Был ли король-отец? Был ли я сам? Но это не страшно. Страшно терзаться мыслью, была ли Этинселль? Или ее я тоже придумал? Потому что единственное мгновение, в котором я замер – это прощальный поцелуй, что она мне подарила. И если не было ее, то не было того поцелуя. И все на этом свете, что было, чего не было, что должно было случиться – всего лишь то, что заключено в моем сознании, которое медленно угасает, как та искра на скале.
#42182 в Любовные романы
#14376 в Любовное фэнтези
#6363 в Разное
#1907 в Драма
Отредактировано: 24.03.2017