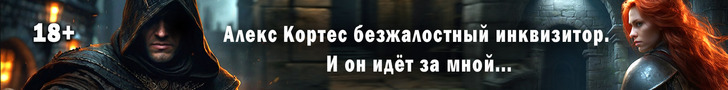Волчья стая
Волчья стая
Солнце, как огромный, накалённый в горниле дня щит, медленно спускалось за лес, заливая небо багрянцем, точно от раны невиданного зверя. Деревня, взятая дружинниками Святослава, казалась мёртвой под этим светом: избы с черными провалами окон напоминали пустые черепа, и лишь из деревянной церкви вырывались пьяные вопли и пронзительная мелодия волынки, словно бес затеял там свою бесовскую пляску.
Ратмир, бывший лихой человек, с выжженным на плече клеймом «вора», шёл по этой мёртвой деревне, и топор на его поясе словно наливался тяжестью чужих грехов. «Свободу, отпущение грехов…» – обещал князь Ярополк, заманивая его, Ратмира, в свою «Волчью стаю». Но может ли кровь смыть кровь, а война, этот праздник безумия, стать путём к спасению? Мысли эти, словно вороньё, кружили в голове, не давая покоя. Под грубой рубахой, пропитанной запахом пота, дыма и железа, холодел серебряный крест – последняя ниточка, связывающая его с тем, прежним Ратмиром, который, может, ещё помнил вкус чистой совести.
– Чёрт дери, тишина-то какая… – пробасил рядом Зубр, верный напарник Ратмира по «Волчьей стае». Лицо у него было рубленное, словно из дуба, а рыжая, как лисий хвост, борода торчала вперёд, как остриё копья. – Всех, видно, порешили уже, али в полон погнали. А в церкви, слышь, пируют. Эх, пустить меня туда, княже, я бы им показал, как с православными обращаться!
– Потише ты, – осадил его Ратмир, хотя и сам чувствовал, как в груди поднимается волна злобы. Но что-то удерживало его от безрассудства – может, вид осквернённой церкви, а может, еле уловимый голос той части души, которую ещё не коснулась ржавчина войны.
– Ты, Зубр, смелости своей не роняешь, это правда, – сказал Ратмир, ощущая тяжесть в каждом своём слове. – Да только голова на плечах не для того, чтобы только шлем на неё надевать. Не забывай законы «Волчьей стаи»: князь нам платит не за лихость одну, а за ум да расчёт.
– Чего тут раздумывать-то? – не унимался Зубр. – Вороньё вон вьётся, кровью воняет за версту. Ясно, что пир там горой.
– А ну как засада? – вкрадчиво, словно филин, ухающий в ночи, подаёт голос Сокол, худой и верткий воин, получивший своё прозвище за зоркий глаз и умение бесшумно, точно тень, скользить в любых зарослях. – Врагов там, может, больше, чем нас, в десять раз? Положим тут головы, и кто нас помянет?
Ратмир молча кивнул. Сокол всегда понимал его с полуслова, и сейчас его осторожность была как нельзя кстати.
– Ты, Зубр, с Вороном обойдёте церковь с одной стороны, а я с Соколом – с другой, – скомандовал Ратмир, чувствуя, как в голосе его невольно прорезается металл привычной команды. – Посмотрим, что там да как. А вы, – кивнул он на остальных дружинников, – ждите здесь и будьте наготове.
Зубр хотел было возразить, да взгляд Ратмира остановил его. Взгляд этот был холоднее стали, и даже в полутьме чувствовалась в нём какая-то не людская сила.
– Ладно, княже, – проворчал он, нехотя подчиняясь. – Делай как знаешь. Только если там в самом деле пир горой, ты мне первого врага оставь.
Ратмир еле заметно усмехнулся.
– Не бойся, Зубр, без добычи не останешься. Только надо её сначала найти, а не головой под топор лезть.
Ратмир, Сокол и двое «волков», Тихоня да Серый, неслышно, словно тени в ночи, растворились в сгущающейся темноте. Обойдя церковь с двух сторон, они встретились у задней стены, где притулилось к основному строению небольшое крыльцо, ведущее в подвал.
– Слышишь? – шёпотом, точно ветер в сухих камышах, прошелестел Сокол, склонив голову набок.
Из-под земли, приглушенно, но отчётливо, доносились звуки: плач, тихие мольбы, грубые, пьяные голоса. Воздух, казалось, сам содрогался от этих звуков, как от ударов кнута.
– В подвал, – коротко, словно клинок в ножны вбросил Ратмир, и первым начал спускаться по шатким ступеням, держась за сырые, холодные стены.
Дверь в келью под алтарём оказалась приоткрыта. Изнутри доносился не только хмельной рев и звон кубков, но и всхлипы, полные отчаяния просьбы о пощаде. Ратмир приблизился к двери и заглянул внутрь, стараясь не производить ни звука.
Увиденное ударило по нему, словно булава по железному щиту. Келья, еле освещаемая коптящей лучиной, представляла собой картину кощунства и ужаса. В углу, съежившись от страха, жались женщины и дети. Лица их, бледные и искажённые, напоминали образа святых мучеников на иконах. Рваная одежда, запятнанная кровью, не оставляла сомнений в том, что здесь происходило совсем недавно. Но самое страшное разворачивалось в центре кельи. Трое варягов, одурманенные алкоголем и безнаказанностью, превратились в настоящих извергов. Рыжий детина с заплетённой в косицы бородой, размахивая кубком, горланил пьяную песню. Двое его подельников, молодые парни с лицами, изуродованными не столько шрамами, сколько какой-то внутренней мерзостью, окружили молодую женщину. Её руки были связаны, платье разорвано, обнажая белое, дрожащее от ужаса тело. Один из них, приблизив к её лицу своё поганое рыло, шептал что-то оскорбительное, другой же, не скрывая своих намерений, грубо рвал на ней последние лоскутки одежды.
«Господи… Да ведь она же совсем ещё дитя! Неужели не осталось в них ничего святого?», – пронеслось в голове Ратмира. В этот миг мир для него сузился до размеров этой кельи, превратившейся в обитель ада. Он забыл обо всём – о князе, о приказах, о собственном тёмном прошлом. Осталось только одно желание – раздавить этих гадов, защитить слабых, хоть как-то искупить собственную вину за всё то зло, что он принёс в этот мир.
– «Волчья стая»! – рявкнул он, выбивая дверь плечом. – За мной!
Келья в одно мгновение превратилась в кровавый ад. Звон стали, дикие крики, предсмертные хрипы и стоны боли слились в чудовищную симфонию смерти. Ратмир, словно одержимый, крушил врагов, не жалея ни себя, ни их. Каждое движение было отточенным, смертоносным – годы, проведённые в разбоях, научили его владеть мечом не хуже самого матерого воина. Зубр, охваченный боевой яростью, действовал как всегда прямолинейно, не разбирая, где враг, а где случайно оказавшийся на пути горшок. Один из его ударов, описав в воздухе страшную дугу, угодил… в ту самую молодую женщину, которую пытались обесчестить варяги. Она даже не вскрикнула, только обмякла, словно кукла, и рухнула на пол, окрашивая доски алым. Брызнувшая кровь задела икону, висевшую на стене, и лик Спасителя окрасился в неестественный, жуткий багровый цвет.
Схватка, если её можно было так назвать, закончилась быстро. Варяги, захмелевшие и не ожидавшие нападения, были перебиты, словно овцы на бойне. «Волки», тяжело дыша, приводили себя в порядок, стирая с лиц кровь и пот. Только Зубр все ещё метался по келье, словно ища новых врагов. Глаза его горели безумным огнем, а лицо и борода были забрызганы кровью.
– Всех… Всех положил… – прохрипел он, с глухим стуком опуская топор.
Ратмир молча оглядывал место сечи. В груди, ещё недавно раздираемой яростью, теперь разворачивалась пустота. «Для чего? Зачем всё это?», – спросил он себя, но ответа не было. Взгляд его упал на мёртвую женщину. «Господи, да я же хотел её спасти!» – пронеслось в голове, и от этой мысли стало ещё тяжелее. Но война не знает пощады, она калечит и убивает всех, кто окажется на её пути. И он, Ратмир, стал частью этой чудовищной машины смерти. Взгляд его скользнул по осквернённой кровью иконе, и он почувствовал, как холодная волна отчаяния захлёстывает его с головой.
В этот момент женщины и дети, до этого забившиеся в угол, начали медленно, точно боясь пошевелиться, подниматься. На их лицах ещё оставался ужас, но теперь в нём читалось что-то ещё – ненависть, презрение, отвращение. Они смотрели на «волков» как на своих спасителей? Нет. Скорее как на новых палачей, пришедших на смену старым.
Ратмир, не в силах больше выносить их взглядов, резко повернулся и вышел из кельи. Сокол и Тихоня, переглянувшись, последовали за ним. Только Зубр всё ещё стоял посреди кельи, словно не понимая, что произошло. Он смотрел на тело молодой женщины, и в его глазах, ещё недавно горевших безумной яростью, постепенно проступало непонимание, а затем и ужас осознания. Но было уже поздно.
– Зубр, пошли! – позвал его Ратмир из-за двери. – Князь заждался.
Зубр медленно повернул голову и посмотрел на Ратмира. В этом взгляде было что-то непонятное – стыд, страх, раскаяние? Он и сам не мог понять, что творится у него в душе. Он только знал, что мёртвые глаза молодой женщины, широко раскрытые, застывшие в немом ужасе, навсегда врезались в его память.
– Иду, княже, иду… – пробормотал он и, пошатываясь, как пьяный, вышел из кельи.
Выбравшись из полутьмы подвала, Ратмир с жадностью вдохнул морозный ночной воздух. Келья с её удушливым запахом крови и страха казалась теперь воплощением всей той мерзости, что несла в себе война.
– Князю идти надобно, – бросил он Соколу, кивнув в сторону лагеря, где в княжеском шатре, словно паук в центре паутины, ожидал доклада Ярополк.
Сам же он, не желая пока ни с кем говорить, подошёл к колодцу и, припав к ледяной воде, долго пил, чувствуя, как каждая капля обжигает горло. Мысли его, обычно быстрые и ясные, как удар меча, теперь медленно ворочались в голове, словно камни, перекатываемые ленивым потоком.
Зубр догнал его уже на подходе к лагерю. Лицо его, обычно грубое и непроницаемое, словно деревянная маска, сейчас казалось потерянным. Он нервно теребил топор, словно не зная, куда его девать.
– Я не хотел… Оно само… – пробормотал он невнятно.
Ратмир молча посмотрел на него. Что он мог сказать? Что на войне нет места сожалениям? Что за всё приходится платить? Да Зубр и сам это знал. Вот только осознание пришло слишком поздно, вместе с брызгами крови невинной.
– Пойдём, – хрипло произнёс Ратмир, кладя тяжёлую руку на плечо Зубра. – Князю рассказать надо.
Они молча вошли в шатёр Ярополка. Князь, сидевший за столом, на котором лежали карты и свитки, поднял на них холодный, пронизывающий взгляд. В нём не было ни удивления, ни гнева – лишь холодный огонь честолюбия, для которого жизни простых воинов были лишь расходным материалом.
Князь Ярополк, выслушав доклад Ратмира о произошедшем в церкви, лишь слегка нахмурился.
– Баб да детей – в обоз, – скомандовал он, возвращаясь к изучению карты. – Завтра на рассвете выступаем. Остальных приведите сюда. Пусть отец Игнатий с ними поговорит.
Ратмир хотел было возразить, сказать, что этим людям нужен не священник, а покой и забвение, что души их искалечены сильнее, чем тела. Но слова застряли у него в горле. Он понимал, что их дальнейшая судьба – дело решённое. Скорее всего, их продадут в рабство или оставят в каком-нибудь монастыре, чтобы молили небеса за грехи тех, кто развязал эту братоубийственную бойню. В любом случае, жизнь их уже никогда не будет прежней. А виной тому – он сам, Ратмир, и те, кто, словно он, променял душу на обещание свободы и прощения.
Выйдя из душного шатра, пропахшего дорогим ладаном и кровью, Ратмир увидел Зубра, всё так же неподвижно стоявшего на том же месте. Луна, пробившаяся сквозь тучи, осветила его лицо мертвенно-бледным светом, делая его похожим на лик печального идола.
– Князь велел остальных привести. И попа этого позвать, – голос Ратмира прозвучал глухо, будто он говорил из-под воды.
Зубр молча кивнул и пошёл выполнять приказ. В его походке, обычно такой уверенной, теперь чувствовалась какая-то сломленность, словно невидимый груз давил ему на плечи. «Неужели и в нём шевельнулось что-то?», – подумал Ратмир, но тут же отогнал эту мысль. Зверь, сколь ни старайся нарядить его в овчину, всё равно останется зверем.
Женщин и детей, дрожащих от холода и страха, собрали на поляне у опушки леса. Они стояли понурив головы, словно стадо овец, ожидающих, когда пастух поведёт их на заклание. Ратмир, наблюдая за ними издали, с удивлением отметил, что даже дети сейчас не плачут, – словно и до них дошла вся бесполезность слёз и мольб.
К ним подошёл отец Игнатий – худощавый, сгорбленный старик с пронзительными, как у птицы, глазами и длинной седой бородой, ниспадающей на грудь, словно ручей молока, стекающий по иссохшей коре дерева. Он начал говорить тихим, успокаивающим голосом, и постепенно лица людей стали меняться. Нет, ужас и горе не исчезли, но появилось в них что-то ещё, что-то неуловимое – может, надежда, а может, просто покорность судьбе. Ратмир не слышал слов священника, да и не хотел слышать. Какими словами можно утешить тех, кто потерял всё? Какими молитвами залечить раны, нанёсенные не только на теле, но и на душе?
Отец Игнатий закончил свою речь, и женщины, успокоенные его словами, стали медленно расходиться по лагерю, словно ища спасения в тени костров «волчьей стаи». Дети, перестав плакать, с любопытством разглядывали воинов, их блестящее оружие и диковинные наряды.
Ратмир подошёл к священнику. Что-то толкнуло его на это – может, желание хоть на миг прикоснуться к чему-то светлому, чистому, что ещё теплилось в душе отца Игнатия, а может, просто безысходная тоска одиночества, сводящая с ума сильнее любой боли.
– Отец Игнатий, – обратился он, и голос его прозвучал хрипло, словно он давно не произносил ни звука. – Можно ли тебе словечко молвить?
Священник кивнул, и они отошли в сторону, к краю поляны, где в ночном небе, словно стражи, чернели зубчатые вершины вековых сосен.
Ратмир, собравшись с духом, рассказал о том, что увидел в келье, о том, как сам едва не стал убийцей той, кого хотел спасти. Слова давались с трудом, словно он вытаскивал их из самых тёмных глубин своей души. Отец Игнатий слушал его молча, не перебивая, и только борода его подрагивала, словно от ветра.
– Тяжко грех на душе носить, сын мой, – проговорил он наконец, когда Ратмир закончил свой рассказ. – Но не тебе судить о праведности своих деяний. Господь видит всё, и каждому воздаст по делам его. Ты хотел спасти невинных, но война – это ад кромешный, в котором плавятся и чернеют даже самые светлые души. Не всегда мы можем выбрать путь праведный, сын мой. Но важно помнить о Боге, о своей вере, и стараться сохранить в сердце хоть искру добра, сколь мала она ни была бы. Молись, Ратмир, молись и проси прощения у Господа. Он милостив и всепрощающ.
Ратмир молча слушал, не смея поднять глаз. Слова священника были как бальзам на израненную душу, но разве может бальзам вылечить смертельную рану? Разве может молитва вернуть к жизни тех, кто погиб от его, Ратмировой, руки?
– Спасибо, отец, – прошептал он, кланяясь в землю так низко, что лоб его коснулся влажной травы.
Он вернулся к костру, возле которого, укутавшись в плащи, дремали «волки». Зубр сидел, откинувшись на ствол дерева, и смотрел на огонь невидящим взглядом. Лицо его, обычно грубое, даже туповатое, сейчас казалось измождённым, словно за одну ночь он состарился на десять лет. Ратмир подошёл к нему и сел рядом, не произнося ни слова. В эту минуту их соединяло что-то большее, чем боевое товарищество – вина, страх, и то леденящее одиночество, которое преследует тех, кто заглянул в бездну и увидел там собственное отражение.
Ночь опустилась на лесную поляну, словно пытаясь скрыть темнотой следы жестокости и боли. «Волки», расположившись у костра, ели свою скудную пищу и почти не разговаривали. Даже Зубр притих, только иногда вздрагивал и озирался по сторонам, словно ожидая увидеть в тени призраков тех, кого он отправил на тот свет. Ратмир же не мог заснуть. Перед его глазами вновь и вновь вставала та страшная картина в келье: осквернённая кровью икона, мёртвое лицо молодой женщины, и собственное отражение в луже крови – искажённое, чужое, дьявольски-прекрасное.
Ночь тянулась бесконечно, словно стараясь выжать из Ратмира остатки душевных сил. Сон, этот краткий миг забвения, не приходил. Перед глазами стоял лик Спасителя, залитый багровой краской, а в ушах звучали не слова утешения отца Игнатия, а предсмертные хрипы варягов, смешанные с плачем женщин и детей.
«За что мне это? – думал Ратмир, кусая сухие губы. – Разве искал я такой славы, такого искупления?». Сердце, казалось, превратилось в кусок льда, и только где-то на самом дне еле теплилась искра, напоминая о том, что он всё ещё жив, всё ещё способен чувствовать.
Под утро, когда небо на востоке начало светлеть, предвещая скорый рассвет, Ратмир, не выдержав мук совести, поднялся и бесшумно, чтобы не разбудить товарищей, побрёл в сторону деревни. Ноги сами привели его к церкви, которая теперь казалась ещё более мрачной и зловещей под светом зари.
Он вошёл внутрь, перешагнув через высокий порог. Внутри было холодно и пусто. Запах ладана, ещё вчера смешанный с запахом крови, уже выветрился, и теперь здесь царил дух запустения и смерти. Ратмир подошёл к алтарю и опустился на колени, не в силах больше стоять на ногах.
«Господи, – прошептал он, и голос его прозвучал чужим, словно он забыл, как нужно говорить. – Прости меня, грешного. Не ведаю, что творю».
Но в ответ была лишь тишина – холодная, равнодушная, страшная.
Ратмир поднялся и огляделся. Взгляд его упал на икону, ту самую, что была забрызгана кровью. Он подошёл к ней и провёл пальцами по лику Спасителя. Кровь уже засохла, превратившись в тёмную корку, но от этого образ казался ещё более страшным и в то же время притягательным.
«Кровь за кровь, – пронеслось в голове Ратмира. – Так было, так есть, и так будет всегда».
Он повернулся и вышел из церкви, не оборачиваясь. На востоке уже всходило солнце, окрашивая небо в яркие, праздничные цвета. Но Ратмир знал, что этот рассвет – лишь краткая передышка перед новой бурей, новым кровопролитием, новыми смертями. И он, Ратмир, волк, запятнанный кровью невинных, уже никогда не сможет укрыться от этой бури, не сможет смыть с себя эту кровь.
Он вернулся к лагерю, где «волки» уже готовились к выступлению. Зубр, увидев его, отвернулся и сплюнул на землю. Ратмир ничего не ответил. Он знал, что Зубр винит его в произошедшем, винит в том, что тот заставил его, Зубра, посмотреть в лицо собственной жестокости. Но разве можно винить зеркало в том, что оно отражает уродство?
«Волчья стая» двинулась в путь, словно стая волков, почуявших запах свежей крови. Впереди, на коне, едва выделяясь на фоне восходящего солнца, ехал Ярополк – их вожак, их князь, их судьба. Ратмир ехал рядом с Зубром, но между ними теперь лежала невидимая пропасть, которую не могли преодолеть ни слова, ни время.
Шли они недолго. Уже к полудню лазутчики доложили, что наткнулись на след отряда Святослава. Князь обрадовался, словно дитя, получившее желанную игрушку.
– Ну что ж, братья, – молвил он, окидывая «волков» горящим взглядом. – Похоже, Господь услышал наши молитвы. Не даст он нам заскучать в этом походе!
«Волки» ответили ему одобрительным гулом, и только Ратмир и Зубр молчали, словно чувствуя, какой ценой достанется им эта победа, эта слава, это искупление.
Битва разразилась внезапно, словно гроза среди ясного неба. «Волчья стая», точно вихрь, обрушилась на вражеский отряд, сея смерть и хаос. Ратмир, оказавшись в гуще сражения, снова почувствовал то странное опьянение, ту забывчивость, которая приходила к нему всегда во время боя. Он рубил врагов, не разбирая лиц, не чувствуя ни страха, ни жалости, ни угрызений совести. В этот момент он был не человеком, а орудием смерти, беспощадным и прекрасным в своей холодной ярости.
Зубр, оказавшись рядом, воевал с той же безумной отвагой, что и всегда. Но Ратмир заметил, что взгляд его теперь не горит прежним огнем. В нём нет больше удовольствия, нет жажды крови – лишь тупая, безнадёжная решимость заглушить внутреннюю боль, даже ценой собственной жизни.
Битва длилась недолго. «Волчья стая», уступая противнику в числе, превосходила его в ярости и отваге. Враги начали отступать, оставляя на поле боя убитых и раненых. Победа была за ними.
Солнце, точно раскалённый диск, катилось к закату, заливая поле брани багровым светом. От этого света даже лужи крови казались чёрными, словно зияющие раны на теле земли. Воздух был напоён запахом смерти, горящей плоти и холодного железа.
«Волчья стая», утомлённая боем, но довольная победой, собиралась на краю леса. Воины приводили себя в порядок, перевязывали раны, подсчитывали трофеи. Ратмир, опершись на свой окровавленный меч, смотрел на поле боя, и сердце его было пустым и холодным, словно старый колодец, в котором давно высохла вода.
Зубр подошёл к нему молча и протянул флягу с водой. Ратмир посмотрел на него, и в глазах их, ещё недавно горевших жаждой битвы, теперь было что-то общее – усталость, отвращение, безнадёжная тоска.
– Князь пирует, – хрипло произнёс Зубр, кивнув в сторону лагеря, где уже разгорались костры и слышались пьяные крики.
Ратмир молча отвернулся. Пир победы… Что могло быть отвратительнее этого праздника жизни на костях? Он уже собрался было уйти, как вдруг взгляд его упал на что-то блестящее в траве, неподалёку от них. Это был обломок зеркала – видимо, выпал из сумы убитого воина. Ратмир наклонился и поднял его. Зеркало было заляпано грязью и кровью, но в его осколке всё ещё можно было различить отражение.
Ратмир посмотрел на своё лицо – чужое, искажённое, с запёкшейся на щеке кровью. На миг ему показалось, что он видит в этом отражении не себя, а кого-то другого – зверя, хищника, чудовище.
– Ты чего, княже? – спросил Зубр, с тревогой глядя на Ратмира. – Заболел, что ли?
Ратмир не ответил. Он просто бросил зеркало на землю и, не оборачиваясь, пошёл прочь – туда, где между деревьев чернел густой и мрачный, словно сама безнадёжность, лес. Зубр ещё некоторое время смотрел ему вслед, потом вздохнул и, подняв зеркало с земли, сунул его в карман. «Странный он стал, наш князь, – подумал Зубр. – Не то что прежде».
Он повернулся и направился в сторону лагеря, где уже начался пир победы. Жизнь продолжалась, и война, этот вечный двигатель истории, не знала покоя. А человек? Человек мог лишь следовать за ней, словно слепой, бредущий на звук дудочки крысолова. И только иногда, в редкие минуты прозрения, он понимал, что звуки эти – не музыка, а предсмертный хрип его собственной души.
«Волчья стая» двигалась на запад. С каждой победой крепла слава Ярополка, всё шире становилась территория, подвластная ему. Но чем дальше на запад уходили они, тем глубже в душу Ратмира заползала тоска. Он воевал как и прежде – хладнокровно, расчётливо, безжалостно. Враги боялись его как огня, а свои прозвали «Кровавым волком» – прозвище, которое ему совершенно не льстило.
Однажды, после особенно кровавой сечи, когда земля была усеяна телами павших, а небо заволокло дымом пожарищ, Ратмир нашёл его – знак, который он так долго искал, сам того не ведая. Это был не крест, не икона, не священное писание. Это был меч. Огромный, двуручный меч франкской работы, с клинком, покрытым загадочными рунами. Он лежал у ног убитого им воина, словно призывая к себе, обещая власть, славу и что-то ещё, что не могло выразить ни одно слово.
Ратмир взял меч в руки, и по телу его словно пронзил разряд молнии. Он почувствовал невероятную силу, исходящую от этого оружия, – силу, способную крушить камни и рубить сталь, словно гнилое дерево. В этот момент он понял – вот оно, его истинное предназначение. Не искупление, не прощение, не смирение. А власть. Власть над жизнью и смертью, власть над собственной судьбой, власть над этим миром, полным боли, крови и безумия.
Он поднял меч над головой, и зловещий блеск стали отразился в его глазах, теперь холодных и беспощадных, как сама смерть. «Волки», увидев своего предводителя с этим грозным оружием в руках, замерли в изумлении. Зубр, стоявший поодаль, прищурился, глядя на Ратмира, и на обветренном лице его промелькнула усмешка – медленная, страшная, полная злобного восторга. Он узнавал своего вожака. Узнавал зверя, пробудившегося от долгого сна.
– Что ж, братья, – голос Ратмира прокатился над полем боя, словно гром. – Похоже, на этом нашем пиру не хватает ещё одного блюда. Идём на восток!
«Волки», охваченные жаждой новых побед, ответили ему диким, протяжным воем. И в этом вое, слившемся с запахом крови и дыма, звучала уже не только ярость и боль, но и что-то ещё – тёмная, первобытная радость хищника, почуявшего запах свежей добычи.
#30895 в Фэнтези
#687 в Славянское фэнтези
#1532 в Историческое фэнтези
древняя Русь, жесткость, искупление
18+
Отредактировано: 30.05.2024