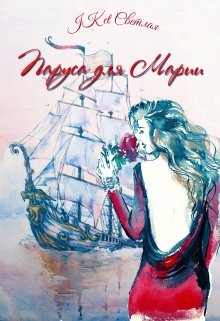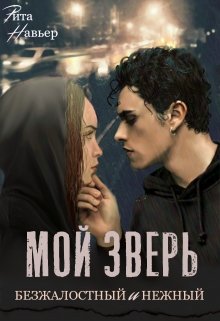Втроём
Втроём
Мне нужно было простить себя за предательство.
Пока не получалось. Так я попал в то место. Мне нужно было где-то срочно поселиться. И я суматошно искал очередное временное пристанище.
Сносное и совсем дешёвое.
«Вот то, что вам надо, — по-русски сказала мне круглолицая риелторша-казашка, которую, как и меня, ветер странствий замёл на этот остров, — комплекс старый, дома пошарпаны, но территория ухожена. Садик внутри… Да и море рядом… Зайдём, посмотрим»?
Я молча осмотрелся.
Вид комплекса снаружи произвёл на меня гнетущее впечатление. Вереница старых двухэтажных домов с телами, при рождении наделёнными белой известковой кожей, но теперь испещрённая витиеватыми изгибами замшелых трещин, закольцовывала общее пространство, выпятив наружу входы в подъезды.
— А других вариантов нет? — спросил я у риелторши, тотчас поняв, что в этом месте говорить мне надо сильно громче, чем я это обычно делаю, потому что голос тонул в грохоте проходящих мимо машин. С подъездной стороны, как грешник, терпеливо несущий свой крест, подвывала, ахала и дребезжала автомобильная дорога.
«Ну, вы же просили самое дешёвое!» — фыркнула моя спутница.
Я молча кивнул, и мы вошли в подъезд.
— Где здесь жить? — оглядывая белые «больничные» стены, тесно меня обступившие, раздражённо «наехал» я на риелторшу.
— Ну как? — тоном обиженного человека буркнула та. — Вот вам гостиная с выходом на балкон… с балкона море видно.
Девушка толкнула стеклянную дверь.
Солнце уже садилось.
В котле из крон вековых усталых эвкалиптов, как черничное варенье, сладко кипело и пенилось море.
Я облизнул пересохшие губы.
* * *
— Да, и спальня тут приличная, — торопилась сделать своё дело казашка, выходя с балкона, — вот, сами посмотрите.
— Нормальная спальня… Спальня как спальня, — согласился я, заглянув в комнатушку, которая была добросовестно оснащена арендодателем чёрной железной кроватью, — только уж очень душно.
— А вы окно откройте, — следуя за мной по пятам, посоветовала мне провожатая.
— Да, пожалуй, — согласился я и двинул в сторону створку раздвижного окна.
С улицы, как из шкафа, под завязку набитого разным хламьём и внезапно открытого, на меня обрушилась лавина грохота, скрежета и пыли.
— Душегубка, блин, — выругался я и задвинул окно обратно.
— Привыкнете, — твёрдо заверила меня девушка.
— Думаете, привыкну?
— Ещё как!.. Конечно привыкнете… Ну, что? По рукам?
— По рукам.
* * *
Вечером у продуктового магазина я натырил и составил в пирамиду несколько разнокалиберных картонных коробок, чтобы восполнить недостачу шифоньера, комода и книжного шкафа в своём жилище.
Распаковал сумки.
Застелил свежим бельём кровать, потом порезал хлеб, сыр и колбасу. Налил полстакана красного вина и, держа в одной руке выпивку, в другой — бутерброды, с удовольствием плюхнулся на продавленный рыжий диван.
Голод утолился быстро.
Но я нуждался ещё и в пище духовной, поэтому, открыв электронную книгу, прилёг на диван.
Там, словно в вазочке, похожие на надкушенные конфеты, хранились книги, лишь на несколько страничек приоткрытые. Я всегда так «пробую на вкус» незнакомые мне тексты.
Сначала «надкусываю».
Потом читаю.
Сегодня мне хотелось приторно-сладкого. Но стоило мне едва прикоснуться к лакомству, как я тут же ощутил сытую усталость.
Опустив книгу в картонную коробку из-под пачек с макаронами «Мутлу» (в переводе с местного — «счастье»), взятую у супермаркета, я закрыл глаза.
И мне уже казалось, что шум с дороги — вовсе не шум.
А колыбельная ночного моря.
* * *
Меня зовут Марина.
Мне двадцать шесть.
Внешность моя слишком обыкновенна, чтобы подробно её описывать. Подтверждение тому — частые возгласы знакомых, примерно такие:
— О! Чугункова, я недавно видела девушку, вылитая ты! Я чуть было не кинулась ей навстречу… Потом гляжу, вроде не ты.
— А… так это моя сестра-близнец! — как от назойливой мухи, отмахиваюсь я от очередного приписанного мне сходства. — Нас все путают!
Впрочем, был в моей жизни ещё такой случай, который вкратце обо мне расскажет.
Как-то раз я оступилась на лестнице и вывихнула ногу. Пришлось ехать на приём к «дорогому» доктору с хвалебными рекомендациями.
— Балерина? — неожиданно спросил меня он, острыми пальцами впиваясь в больную мышцу.
— Я? Нет! Что вы? Конечно нет, — не без сожаления отреклась я от образа, по ошибке мне приписанного. — Я лыжница… Бывшая.
— А… я смотрю, ты жилистая, — пояснил своё предположение доктор. И в первый раз за приём взглянул мне в лицо утомлёнными, в красных змейках лопнувших прожилок, умными глазами.
Потом врач выписал мне рецепт.
И я, одетая в чёрную обтягивающую водолазку, у гардеробного зеркала закрутила свой хвост в пучок на затылке, напялила тяжёлый дутый пуховик и с нафантазированной гордостью самой собой покинула больницу.
Я шла, прихрамывая и представляя себя балериной, подстреленной театром в ногу.
* * *
Близился Новый год.
На календаре торопливо частил декабрь.
Я пришла в редакцию газеты, в которой тогда работала журналисткой.
— Вот, Чугункова, это тарелка, — фотограф Вова, возникший внезапно, нахлобучил на мой рабочий стол чистый лист бумаги форматом А4, — пусть полежит пока… Я тортик тебе оставил… Ты жди, я сейчас…
Не успела я спросить Владимира о том, по какому случаю банкет, как взамен мелькавшей между редакционных столов взлохмаченной светловолосой головы уходящего фотографа выплыла на первый план широкобёдрая, давно уже зрелая женщина, корректорша Вера.
— У Вовки день рождения сегодня, — Вера приподняла белёсую бровь, — не знала?
— Откуда? — оправдывалась я. — Месяц всего в редакции работаю… Эх, хорошо бы подарок купить.
— А ты купи, купи, — Вера протянула мне мой текст, ею поправленный. — Тортик — это ведь прелюдия к пиршеству… Вовка обычно такой ужин закатывает, что пальчики оближешь! Он уже приволок из дома кастрюли. В прошлом году голубчиками нас угощал, салатиками всякими.
Вера сглотнула слюну.
* * *
Весь начавшийся декабрь Вера сидела на диете.
Она, притаскивая на работу лотки с тёртой морковкой и ещё чем-то овощным и пресным, плакалась на свою судьбу всем подряд.
— Жена? — удивлённо вскинулась я.
— Чья жена? — не поняла Вера, очарованная воспоминаниями о голубцах.
— Ну, Вовкина жена… Это она голубцы с салатиками готовит?
— Да какая там у Вовки нашего жена! — сморщила носик Вера. — Нету у Вовки никакой жены… Родила ему уродика и исчезла.
— Уродика?
— Уродика.
— И исчезла?
— Исчезла.
— Куда?
— Ну, я не знаю… вообще никто не знает.
Верина неосведомлённость ввела меня в ещё большее недоумение. Корректорша знала всё. И я уж было открыла рот, чтоб тем не менее прояснить ситуацию.
Но осеклась.
— Т-с-с-с!… — увидев, как на горизонте замаячила Вовкина голова, настороженно зашипела я.
— Ну, я пошла… А ты ошибки-то исправь, — снисходительно глянула на меня сверху вниз образцово грамотная корректорша и, плавно качнув бедром, учуявшим приближение мужчины, удалилась прочь.
А Вовка аккуратно серебряной лодкой-ложечкой выложил из нарядной коробки мне на бумажную «тарелку» форматом А4 последний кусочек вишнёвого чизкейка.
Вовкин деньрожденный ужин я так и не отведала.
Да и подарок ему не купила.
Вместо этого я поехала собирать материал для очередной статьи, хоть написание её не требовало срочности.
«А Вовка о тебе вчера спрашивал», — сообщила мне на следующий день корректорша Вера.
«Я не могла остаться, — без тени сожаления соврала я. — Дела, дела…»
* * *
— Марина, зайди ко мне, — редактор газеты Филина курила в форточку, стоя на подъездной лестнице, когда я поднималась наверх, — дело есть.
— Хорошо, зайду, — намеренно пустив в голос струю напыщенного энтузиазма, ответила я начальнице.
Под руководством Филиной я проработала всего месяц. И мне нужно было упрочить своё место в журналистском коллективе, поэтому приходилось хорохориться, демонстрировать рабочую прыть… Хотя думать в эту минуту хотелось о другом.
Я с тоской глянула в окно, которое полузаслонила редакторша.
Там, сквозь гусиным пиром изящно писаную изморозь, разноцветными огнями мерцала городская ёлка.
* * *
— Марина, а езжай-ка ты в галерею. Там местные художники выставку сегодня открывают, — Филина, похожая на развязного очкастого юношу, теперь сидела за столом своего рабочего кабинета, как всегда, в расслабленной позе.
Одним плечом она касалась спинки кожаного кресла, вторым висела в воздухе, явно преодолевая желание (это слишком угадывалось) закинуть ногу на ногу. Потёртые джинсы, к редакторскому счастью, не сковывали движений.
Сковывали правила поведения, написанные для безупречно вышколенных девочек.
— Сейчас нужно ехать? — уточнила я.
— Нет, сейчас беги в поликлинику на медицинский осмотр. Он обязательный, ежегодный, в целях профилактики… А потом — в галерею.
— Ага, — кивнула я и развернулась, готовая сорваться.
— Чугункова!
— А?
— Фотографа не забудь! — Филина взглянула на ручные часы с крупным круглым циферблатом, покрывающим её запястье, и закинула-таки ногу на ногу. — Вовку в галерею возьми.
* * *
Я проснулся от навязчивого звука, не сразу поняв, где нахожусь.
А ещё этот писк, жалобный, но настырный.
Приподнявшись на локтях, щуря ещё не привыкшие к свету глаза, я пробовал осмотреться, чтобы вернуть себя в действительность.
«А… квартира…», — сообразил-таки я, углядев на полу картонную коробку из-под макарон «Мутлу», в которой заночевала моя электронная книга.
Я слегка успокоился… Но вопль!
Он продолжал пытать моё сердце, и без того сбитое с толку внезапным пробуждением и скакавшее теперь вприпрыжку.
Я вылез из кровати. Босиком прошлёпал к балконной двери.
В её стеклянный проём частил дождь.
Сквозь белёсую смуту воды застиранным зелёным пятном мне являлись полупризраки-полудеревья.
Я открыл дверь.
* * *
Господи Иисусе!
Выходцы из ада существуют!
То был котёнок с разинутой в полувопле, в полушипении алой пастью.
Он как будто осатанел, поняв, что дверь перед ним распахнулась, и ринулся напролом с намереньем зубами выгрызть из меня добычу: еду и тепло.
Его чёрная мокрая торчащая клочьями шерсть, круглая большая морда с алчным оскалом и глаза обезумевшего звериного детёныша делали его похожим на маленькую гиену.
Вот только хвост!
Хвост у котёнка не был поджат, как это делают падальщики.
Хвост стоял торчком.
И он был бледно-розовым!
Кожаным!
Голым!
«Да у тебя лишай!» — уворачиваясь от котёнка, который норовил потереться о мои ноги головой, ужаснулся я.
Мощным пинком отшвырнув пришельца в сторону, я выскочил в подъезд.
Тот мгновенно оправился от боли и бросился за мной.
Но я его обхитрил.
Выманив его из квартиры, я изловчился и, занырнув обратно, хлопнул дверью прямо перед носом у обманутого гиенёныша, открывшего в жалобном «мяу» зубастый рот.
* * *
Отвязавшись от лишайного котёнка, я принялся «сдирать с себя кожу». Тёр ноги моющим средством для посуды «Фейри», спиртовыми салфетками, купленными год назад для авиаперелёта, и дорогим парфюмом, приобретённым в том же в аэропорту в дьюти-фри.
А гиенёныш, оставшийся в подъезде, всё взывал, стонал и плакался.
Но прошло время, и страдалец затих.
Я выглянул в мутный дверной глазок.
Котёнок, прижавшись боком к холодной стене, подвернув под себя лапы, словно маленькая лошадка, обречённо клевал носом.
«Меня караулит», — подумал я. А утром позвонил риелторке.
«Так у вас там начальник есть. Пожалуйтесь ему, — посоветовала та. — Пусть утилизирует этого котёнка лишайного, куда надо».
* * *
Я пришла в поликлинику.
На медицинский осмотр. Как велела мне Филина.
— Сегодня сто двадцать сисек прощупала, — скорее в пространство, нежели мне, сказала врач, невысокая крепкая женщина с причёской, напоминающей перья разбуженной совы. Коротко стриженные, бурые с подпалинами волосы ниспадали на стёкла огромных очков. Оттого врач уж вовсе смахивала на ночную лесную птицу.
— Много, — представив сто двадцать сисек, вслух подумала я. И задрала вверх блузку.
— Много, — вздохнула врач и без энтузиазма принялась пальпировать и моё тело.
— А где столько сисек взяли? — заела меня случайно оброненная фраза.
— Так медосмотр в Сосновом бору.
Сосновый бор — это место, где в нашем городе находился интернат для женщин с нарушениями психики.
В народе их называли дурочками.
— А что?.. — застёгивая блузку, спросила я. — У дурочек сиськи красивые?
Женщина вздрогнула. Как будто бы ждала, что я спрошу её об этом.
— Сегодня видела такую, — врач, тревожно упёрлась взглядом в пространство. Как будто снова увидела ту самую дурочку. — Молодая. Высокая. Бледная, как луна… А волосы рыжие, почти красные, по плечам раскиданы! Стоит, молчит… Глядишь на неё, и страшно становится… Как думаешь, красота бывает страшной? — вопросительно впёрла в меня глаза впечатлённая докторша.
— Бывает, — уверенно рубанула я, поддавшись её состоянию. — Ещё как бывает!
* * *
Мы с Володькой пришли на выставку.
Внутри галереи слишком ярко, даже тревожно ярко освещённой большими круглыми люстрами, с вытянутыми бутонами электрических ламп, имитирующих свечи, волнующе пахло обрывками парфюмерных ароматов и живых цветов.
У раздевалки губастый мужик в лохматой шапке, в пальто со столь же лохматым воротником, похожий на медведя, расцарапывал свёрток из плотной суровой бумаги.
Губы у посетителя выставки шевелились. Маленькие глазки под лохмами шапки двигались. «Медведь» священнодействовал. Как будто раздвигал малинник, предвкушая увидеть внутри куста яркие сочные ягоды.
Наконец, из-под грубой серой брони явились на свет хрупкие белые лилии.
Мужик взволнованно облизнулся.
А я начала стаскивать с себя пуховик.
«Давай помогу», — предложил Володька, содрал с меня одежду и сдал её в галерейный гардероб молодящейся старушке со сгустками оранжевой помады в морщинистых губах.
* * *
В самом дальнем углу галереи скромно жалась тётенька.
Она была сильно не похожая на снующую туда-сюда богему с пузырящимся сквозь бокальное стекло шампанским в дорого окольцованных руках.
Тётечка эта не была похожа на художницу.
Её бардовая старомодная кофта с карманами, седеющие волосы, собранные в жидкую кичку на затылке, нерешительность — всё указывало на то, что женщина чувствует себя чужой на этом празднике жизни.
— Извините, кто автор этих картин? — тем не менее спросила я, указывая на несколько полотен, связанных одной темой. На каждом из них было небо.
— Я, — встрепенувшись, откликнулась тётушка с видом торговки неходовым товаром на рынке, к которой наконец-то обратился покупатель.
* * *
— Я всегда рисую только небо, — охотно заявила в интервью художница.
— Почему?
— Потому что на небе Ангелы живут.
— Ага… вот как?.. А что они там делают?
— Ну, я же говорю… Они там живут! Конечно, иногда они спускаются на землю… Но не часто… Кстати! У вас за спиной сейчас Ангелочек стоит.
— У меня???
— Да. Мальчик лет семи. …Сам светленький, а свитерок у него тёмненький… На груди пятнышко маленькое… розовое… Этот мальчик всегда будет хранить вас. Всю жизнь.
— Ну, что ж… всё может быть, всё может быть, — торопливо засовывая в сумку блокнот с записями, поспешила свернуть я беседу, опасно норовящую скатиться в бред. — Наша газета обязательно опубликует интервью с вами… Возможно, во вторник… Ловите.
«Мадам ку-ку…» — уже мысленно и глубоко разочарованно закончила я свою речь, потом зло окликнула Вовку, чтобы он прекратил-таки щёлкать фотоаппаратом.
* * *
В тот год, стремительно уходящий, я была на «мели».
Жильё моё, съёмная квартирка на окраине города, расположенная в двухэтажном жёлтом бараке, ничуть меня не радовала.
То ветер, воющий за окном, вгонял в меня смертельную тоску; то почти остывшие рёбра батарей доводили меня до «белого» каления; а уж ночные бурные попойки соседей-алкашей за стенкой и вовсе рождали во мне приступы животного жгучего страха.
Арендовать другое жильё я пока не могла.
Смена работы, на которую я решилась месяц назад, была кульбитом рискованным. Я экономила каждую копейку, боясь остаться с «фигушкой в кармане».
Личная моя жизнь и вовсе разладилась, многолетний вялотекущий любовный роман, словно старый и грустный тягловый мерин, пал вдруг на бок, да и сдох.
«Наконец-то, — с облегчением подумала я, — туда тебе и дорога».
* * *
— Где Новый год встречать будешь? — спросил меня Вовка, когда мы шли на очередное задание редакции мимо магазинных витрин, торжественно мерцающих весёлыми огнями.
— А, — безнадёжно хмыкнула я, — дома встречу. Куплю в гастрономе селёдку под шубой… Ещё в моём холодильнике давным-давно стоит недопитое вино «Изабелла» в картонной коробке, надеюсь, оно не прокисло. Включу телевизор, приволоку на диван ватное одеяло, зароюсь в него… в квартире очень холодно… чокнусь с ведущими «Голубого огонька»… Вот и вся моя программа новогодней ночи.
— В Новый год — одна? — удивился Вовка.
— Одна. Совсем одна!
— А я с сыном Новый год встречать буду. Приходи, если хочешь.
— Хочу, — как «за соломинку» ухватилась я за Вовкино предложение. — Конечно хочу!
* * *
Я нажала на кнопку звонка.
Дверь медленно приоткрылась.
В проёме я увидела мальчика лет шести-семи.
Дневной зимний свет, которого хватало сполна, когда я бодро шагала по свежезастеленной снегом улице, теперь умалил свою милость.
Здесь, в подъезде, его источником служило только мутное подъездное окно.
Мне пришлось прищурить глаза, чтобы получше рассмотреть белокурого ребёнка, стоящего на пороге.
Его острое лицо казалось тем более бледным, почти размыто-голубым, как будто бы служило фоном для больших и тоже голубых (таким бывает небо в конце марта) глядящих на меня усталых детских глаз.
Но взгляд мой резко съехал ниже.
Мальчику на грудь.
Там, под тщательно отутюженной рубашкой, стремясь к подбородку, уродливо бугрился горб.
— Вы Марина? — спросил меня мальчик. Его вопрос лёг на свист, доносящийся из груди, как слова песни на музыку.
— Да. А ты Влад?
— Ну конечно… Входите.
* * *
Влад отступил внутрь, и я шагнула в квартиру.
— Давайте куртку, — маленький хозяин услужливо потянул меня за рукав. — Папа сейчас вернётся. Он в магазин убежал. За ванилью.
— Что печёте?.. Запах-то, запах! — с наслаждением поводя носом и вытаскивая из сумки нарядный свёрток, спросила я.
— Штрудель. Яблочный, — скороговоркой ответил мальчик, более заинтересованный моими действиями, чем беседой. — Что это? Подарок?
— Подарок.
— Только не сочиняйте, что Дед Мороз передал… Я не маленький.
— Ну почему же Дед Мороз? — замялась я. И прижала пакет к груди. — Это от меня тебе подарок. Уж не знаю, понравится ли…
— Мне не понравятся коньки, мяч, велосипед… — один за другим принялся зажимать на руке пальцы Владик, — всё остальное понравится.
— Круто! Я знала! Я знала, что большая кастрюля для варки щей тебе точно понравится! — подзадорила я мальчишку.
— Чего? — сморщил носик Влад. — Кастрюля для щей? С капустой? С варёной морковкой? Бе-е-е… ненавижу… Но там не кастрюля… У вас в руках что-то плоское.
— Э, да ты у нас наблюдательный, как Шерлок Холмс! — одобряюще похлопала я по плечу ненавистника щей. — Ну на, держи.
— Лего! — взвизгнул Влад, извлекая из-под нарядной обёртки коробку с конструктором. — Самолёт! Я о нём сто лет мечтал!
* * *
Я смотрела вслед мальчику, улизнувшему от меня из коридора в гостиную.
Влад не ускакал вприпрыжку.
Он именно улизнул.
Сделал это плавно, как бы увернулся.
Этим телесным кульбитом выражалась максимальная Владова скорость. И коробку с самолётом он не прижимал ручонками к груди, как делают многие дети на свете в момент получения желанного подарка, а волок, зажав под мышкой, накреняясь немного вбок под тяжестью крупной добычи. Эти жесты, продуманные, осмотрительные, лишённые детского восторженного задора, добавляли ему много-много лет.
А голос, низкий, одышечный, и вовсе делал Влада похожим на маленького старичка.
* * *
Я вгляделась в своё отражение в зеркале, висящем в тесном коридоре.
Зеркало ничем не удивило.
Тот же пучок на затылке.
Под левым глазом чуть подтёкшая, растворённая попавшей в глаз снежинкой дешёвая чёрная тушь.
— Мари-и-и на… — произнёс моё имя с очень длинным «и» вошедший в квартиру Вовка.
И это долгое «и» сделало звучание имени особенным.
Я вздрогнула от этой неожиданно блеснувшей своей мысли о том, что особенными делают наши имена люди любящие.
— Здравствуй, Володя, — улыбнулась я.
— С Владом уже познакомилась?
— Конечно.
— А почему здесь стоишь? К ёлке идём! К ёлке!
* * *
— Вот так ёлка! — искренне удивилась я. — Никогда такую не видела.
— Мы её из картонной коробки сделали, — сидя на ковре перед горой рассыпанного лего, важно сказал Влад, — жалко живую губить.
— Конечно жалко!.. А ваша ёлка просто чудо.
Я подошла поближе, чтобы рассмотреть кособокое картонное творение, неряшливо выкрашенное в буро-зелёный цвет и уляпанное сверху бумажными снежинками, вырезанными из тетрадных страничек в клеточку.
Я представила себе, как Вовка, набегавшись с фотоаппаратом по редакционным делам, садится вечером на диван рядом с больным сыном, в одиночестве прождавшим его весь день, берёт ножницы, бумагу и чикает, чикает, чикает…
Сердце моё наполнилось мучительной, но сладкой болью. Коллега открылся с другой стороны. Володино отцовство меня умиляло.
— А я долго думал, чем тебя удивить, — вышел из кухни Вовка, — решил, что яблочный штрудель со щепоточкой корицы, с капелькой мёда в новогоднюю ночь самое то.
— И с ванилью! — поднял вверх указательный палец Влад.
И мы втроём рассмеялись.
* * *
О чём-то громко срежиссированным весельем базлал телевизор.
Мы сидели втроём за столом, хохоча ни о чём, ели утку, приготовленную по-китайски.
Утку предлагалось кушать с рисовыми блинчиками, завернув туда брусочки свежего огурца и стебельки порея.
Ели креветки, поданные Вовкой с чесночным соусом; аккуратно пробовали очень острую баклажанную закуску.
Владик, поклевав, как птичка, выпорхнул из-за стола и, усевшись на ковёр по-турецки, зашуршал, забряцал детальками лего. Да так у кучи и остался, потеряв интерес к отцу и ко мне, им не званой гостье.
Мы с Вовкой дули шампанское и без злорадства сплетничали о своих журналистских собратьях, вспоминая смешные случаи и переделки, в которые все мы время от времени попадали.
Потом Вовка подарил мне шерстяные носки, которые я сразу надела.
А ещё кучу снимков.
Вовка запечатлел меня за работой то склонившейся над рабочим столом, то с диктофоном в руке, то сидящую на планёрке.
Это были живые фото.
Сделанные исподволь.
Других таких у меня не было никогда.
И уже не будет.
* * *
Я подарила Вовке тёплый шарф, зная его привычку ходить с голой шеей. Вовка погладил шарф рукой, как котёнка. И мне, под воздействием шампанского, казалось, что шарфик вот-вот замурлычет.
Я почувствовала, как тяжесть предновогодних недель легла мне на плечи. Сытость клонила в сон. И я, ничуть не смутившись своей внезапной усталости, прилегла на диванчик, там, где сидела.
И вот уже сплошным потоком шума, не облачённые в слова, текли из настырного телевизора размытые звуки.
Вдруг слово «втроём», наделённое совсем новым смыслом, смело вынырнуло у меня из-под сознания. Так неожиданно и мощно перед «Титаником» нарисовался судьбоносный айсберг.
«Втроём. Я, Вовка, Влад», — читалось сквозь туман.
Но мой «Титаник» стушевался.
Решать, как быть со словом «айсберг», он не желал.
Схитрил.
Растаял.
И я, в полусне, в полунеге, мечтала только об одном. О том, чтобы плед, клетчатый и тёплый, покрывающий кресло, взметнулся бы над комнатой, будто ковёр-самолёт, и лёг на моё озябшее тело.
И плед взметнулся и лёг. Володя накрыл меня им.
* * *
Проснулась я рано.
Окно было тёмным.
На фоне этой темноты вдалеке исправно дымили две заводские трубы, выпуская на волю расплывчатые перистые облака «сладкой ваты».
Одно облако было голубым.
Другое — розовым.
Город уже не спал. Миллионы утренних звуков, издаваемых в эту секунду человечеством, сливались в общий вселенский гул.
От этого гула, от вида «сладкой ваты», от того, что я проснулась на чужом диване, в джинсах, в водолазке и в шерстяных носках, накрытая чужим пледом, душу мою охватила смута.
Я чувствовала себя виноватой.
Как будто сделала что-то плохое.
«Но что? — мучительно думала я. — Вечер прошёл пристойно. В чём же дело?»
И тут я представила себе вот что…
Сейчас проснётся Вовка. Нальёт мне кофе. Принесёт на блюдечке кусочек яблочного штруделя. С корицей и капелькой мёда… И, конечно, с ванилью!
Я буду есть и пить. А Вовка будет смотреть мне в глаза. Ловить каждое моё слово.
А я… Что я?
* * *
«А я сейчас же должна отсюда свалить», — решила я, резко скинула с себя плед, поднялась с дивана. Стянула носки, сунула их в сумку, стоящую в коридоре, оделась и очень тихо вышла из приютившей меня в новогоднюю ночь Вовкиной квартиры.
Я агрессивно шагала по городу.
А слово «втроём», словно вирус, подхваченное мной накануне, свербящей ноющей болью оседало глубоко в ушах и в раздражённом горле.
Я трясла головой.
Плевала в снег заражённые слюни.
Я хотела от слова «втроём» поскорее избавиться.
«Вовкина забота блестит, как липкая паутина на дереве, — зло думала я, — а я — безмозглая Муха-Цокотуха, пляшу под дудку Вовки-паука за яблочный пирог… А паучок уж потирает лапки: «Попалась, милая… попалась».
Мне стало жаль себя.
Я подозревала Вовку в нечистоплотных помыслах. Мне казалось, он хочет использовать меня как бесплатную няньку для своего больного сына.
Зачем я связала себя знакомством с этим человеком?
Ведь Володька мне даже не очень-то и нравился.
* * *
— Ты фотки свои у меня оставила, — сказал мне Володька, позвонив днём.
— Извини. Я спешила, — выкручивалась я, — у меня статья срочная.
— Ладно… У тебя будет повод зайти ещё раз.
— …Ты извини… мне писать нужно.
— Влад привет тебе передаёт.
— И ты ему передай.
О Владе я старалась не думать. Мысли о больном бледном мальчике с горбом на груди вселяли в меня ещё большую панику, чем мысли об его отце.
Я решила спасаться.
* * *
Я отыскал начальника. Им оказался мосластый высокий англичанин.
Под козырьком бейсболки его глаза (уже давно не молодого человека) метали гром и молнии. Начальник яростно «собачился» с трудягами местного «разлива» на их языке. Те слушали молча, рассеянно поглядывая на уложенную ими (похоже, не вполне искусно) тротуарную плитку.
Я поздоровался.
На неуверенном английском объяснил, что вчера заселился во-о-он в ту квартиру, и ткнул я пальцем в сторону окна своей холостяцкой дыры.
— Окей, окей, — одобрительно покачал головой начальник, в секунду сменив гнев на милость.
— Вообще-то, SOS! — не согласился я. И с жаром поведал о том, что меня одолел лишайный котёнок, что я не хочу подцепить ненароком заразу и на дух не переношу уличных кошек.
Начальник слушал.
Кивал головой.
— Существуют ведь специальные службы, — ободрённый его внимательным к себе отношением, закруглил я свой пылкий монолог, — пусть работники такой службы приедут, утилизируют котёнка куда надо — и дело с концом.
— Не надо службу, — отрезал начальник, — дорого. Я сам с котёнком справлюсь. Один на один.
— И как же? — заинтригованный таким решением, полюбопытствовал я.
— А-а-а, — англичанин махнул рукой в сторону эвкалиптовой рощи, — вывезу подальше, и «концы в воду».
— Ну, как знаете, как знаете, — нехотя поддержал я решение начальника, — а когда?
— Так прямо сейчас, — сказал он мне и, широко гребя в воздухе длинными мощными руками, резко куда-то пошагал.
Минут пять спустя, сидя на балконе, я наблюдал такую картину. Начальник в резиновых санитарных перчатках по локоть выманивал из гущи олив облезлого котёнка (того самого, с розовым хвостом). Он крутил у животного перед носом кусочком, очевидно, чего-то вкусного.
Котёнок купился.
И тут же был сцапан.
Посажен в холщёвый мешок!
* * *
Я проснулся ночью.
Не сам.
Я был разбужен.
Надрывный кошачий вопль был тому причиной. Звук раздавался из-за балконной двери.
В ночи я припомнил Стивена Кинга, его «Кладбище домашних животных» и неумело перекрестился.
«Нет, — думал я, покрываясь испариной, — это не ты, мой маленький розовохвостый друг. Ты в эвкалиптовой роще. Конечно, уже не живой… Давай, покойся с миром».
Но хайластое животное покоиться не желало.
Я подошёл к двери.
Глянул в стекло.
Это был он!
Мой голохвостый выходец из ада!
* * *
— У-ф-ф-ф! — работник ветеринарной клиники, жгучий красавчик-качок в бирюзовом спецкостюмчике, «как чёрт от ладана», отпрянул от больничной кушетки, на которую я вытряхнул лишайного котёнка из картонной коробки. — Да у него же хвост как будто поросячий!
— Ага, — кивнул я, — а можете ему хвост кошачьим сделать?
— О… Это дорого вам обойдётся, а усыпить могу почти даром… Так что делать будем?
— Лечить, — твёрдо и скоро сказал я, чтобы не успеть передумать.
Ветеринар подробно пояснил, на что мне придётся раскошелиться. В лечение «поросячьего хвоста» входила госпитализация, лекарства, кормление.
— На всё готов, — нетерпеливо махнул я рукой.
И направился к кассе.
* * *
Я переехала к Вовке полгода спустя.
Как будто случайно.
Помню, июнь пришёл с ливнями.
Листья на высоких тополях, растущих у моей трамвайной остановки, уже достигли пика своей краткосрочной жизни.
Плоские лопасти их тел, уже запылённые едва наступившим летом, милосердно омывали дожди.
Но я не тополь.
Обильные осадки действовали на меня губительно.
Арендованная мною квартира, и без того затхлая и сырая, всю зиму терзавшая меня холодрыгой, весной и вовсе «разродилась» мышами.
По ночам грызуны шебуршались, пища и дерясь за найденные крошки.
Я холодела от ужаса, боясь, что они вскарабкаются мне в кровать.
— Так мыши вроде по кроватям лазить не умеют, — сказала мне Вера, когда я, прося совета, как быть, пожаловалась ей на своё житьё-бытьё, — у них лапы вроде как не приспособлены вверх карабкаться. Иначе б мыши на деревьях жили.
— Дай бог, дай бог, — сильно сомневаясь в Вериной логике, тяжко вздохнула я. — Знаешь, Вера, я решила снять получше квартиру… Филина меня жалует. Деньги я подкопила… Готова рассмотреть предложения. Не знаешь, к кому за советом обратиться?
— Ко мне обратись, — вздёрнула носик Вера.
— К тебе? — ничуть не удивилась я Вериной компетенции на рынке недвижимости. Она знаток в каком угодно деле. — Обращаюсь!
— На фига тебе снимать квартиру? — состряпала скептическую гримасу всегда критически настроенная Вера.
— Как на фига? — не поняла я, куда клонит корректорша. — Не хочу быть съеденной мышами заживо.
— Ой, да не будут тебя мыши есть! Костями подавятся! Я вообще не о том, — перешла на шёпот Вера, предварительно оглянувшись назад и убедившись, что наш разговор никто не слышит. — А Вовка на что? Парень молодой, холостой. С квартирой! Видно, что ты ему нравишься… Бери его в оборот. Дескать, готова быть вашей, Владимир, на веки… И всё! Дело сделано. И мышей кормить не придётся.
— Да? Прямо так и сказать: ваша на веки? — внезапно одухотворилась я очевидной Вериной идеей.
— Да. Так и сказать, — довольная тем, что я вняла её поучительности, подтвердила корректорша, — всему тебя учить надо.
— А Влад? — схватилась я за самый веский аргумент, который был, на мой взгляд, непреодолимым препятствием в этом деле.
— А что Влад? — Вера наклонилась ещё ниже. Близко-близко к моему лицу. Теперь её шёпот звучал почти зловеще. — Влад — не жилец! А ты за Вовку замуж выйдешь, квартиру в центре города в придачу иметь будешь… Тебе сколько лет? Кто тебя замуж, кроме Вовки, возьмёт? Ни кожи, блин, ни рожи… неряха бесхозяйственная… одни конфеты вон жрёшь!
— Постой, Верочка, постой… Что ты про Влада такое сказала?! Как не жилец? Что ты говоришь-то такое?
— То! Ты как будто с Луны свалилась! Не знала, что у Влада сердце больное?
— Знала.
— А что болезнь его смертельная, знала?
— Нет, ничего такого не знала.
— Так знай! И о себе уже подумай, дура!
* * *
Этот разговор вскипятил мои чувства.
Я не могла писать.
Не могла пялиться в монитор.
На улице шёл сильный дождь.
Я шагнула из-под подъездного козырька в самую гущу ливневых струй. И сразу почувствовала озноб.
Небесная вода, не по-летнему холодная, неласково окатило тело снаружи, принеся с собой ощутимое облегчение.
Однако в груди полыхало.
Я, словно тлеющая головёшка, на которую туристы хлобыстнули воды, чтоб затушить лесной костёр, оставалась гореть изнутри.
Видел Бог, я не жаждала облегчить свою участь за счёт тяжелобольного ребёнка.
Напротив.
Разговор с корректоршей расположил меня к Володе со всей широтой души милосердной русской женщины. Я его пожалела.
Я вдруг внезапно поняла, что жалость выше, тоньше, благороднее любви. И там, где любовь покорно «сложит лапки», простое человеческое сострадание, воспрянув духом, сделает невозможное.
Я приняла решение, что мне нужно многое обсудить с Володей.
А главное — что происходит с Владом.
И если Верины сведения о том, что он болен смертельно, безоговорочно подтвердятся, то я задам контрольный вопрос: когда?
* * *
Влад умер скоро.
Полгода спустя.
В пригородной электричке.
Мы хотели вдвоём погулять по зимнему лесу. Воздух был влажный, как будто бы в комьях: то пустой, то рыхлый. Такие смутные тёплые дни случаются в марте.
Но шёл декабрь.
И мы не усидели дома. Нарушив запрет Володи (он был тогда в Москве) не совать нос дальше детской дворовой площадки — рванули за город.
Там, в пышно наряженном хвойном лесу, находилась конюшня. И можно было покататься верхом на лошадке, предварительно накормив её морковкой, яблоком или кусочком хлеба.
Втайне от всех я часто возила сюда мальчишку. Узнай Володя, что я это делаю, он бы, наверно, «истёр меня в порошок».
Владу вредил не только стресс, но даже слабенькое волнение.
Однако у меня была своя метода Владова оздоровления. Я, бывшая лыжница, жилистая и вёрткая, верила в могущество самоисцеления.
«Было бы желание жить», — твердила я с отчаянной надеждой. И терпеливо учила Влада радоваться жизни, впуская в неё чудеса. А для этого нужно было покидать квартиру.
Влад был мне благодарен.
* * *
В то утро Влад надел тёмный старенький свитерок.
— Это что у тебя в руках? — спросила я его, подкатывая рукава. Мальчишке приходилось покупать одежду на много размеров больше, чтоб уместить его большое сердце.
— Я коняшку нарисовал. Розовую. И вырезал, — сказал мне он, — хочу на свитер прицепить.
Влад протянул мне бумажную лошадиную голову, к которой с обратной стороны была прилеплена скотчем булавка.
— Красавчик, — щёлкнув булавкой и приколов голову, одобрительно кивнула я, — пошли мыть морковку.
Потом, выйдя из дома задолго до отправления электропоезда, мы с Владом побрели на станцию.
— А я ещё манго взял, — сообщил довольный Влад.
— Ещё чего! Я манго коней кормить не нанималась! — в шутку возмутилась я несправедливому распределению продуктов. — Манго — это деликатес. Я его только тебе покупаю. А Звёздочке манго нельзя. В манго косточка. Сам съешь.
— Нет, — не огласился Влад, — я манго тебе отдам. Ты косточки выколупывать умеешь.
К перрону из глубины тоннеля, как большая глазастая змея, выползла электричка.
Тревожно протрубила.
Мы с Владом зашли в полупустой вагон, плюхнулись на свободные места.
Сиденья порадовали нас подогревом. И Влад, утомлённый долгой ходьбой и нутряным теплом электрички, притулившись боком ко мне, быстро уснул.
Задремала и я.
А когда открыла глаза, увидела, как мелькнула жёлтым вокзалом наша конечная станция.
Я аккуратно приподняла голову мальчика.
«Влад, Влад… — мягким в умилении голосом позвала его я. — Слышишь, Влад…»
Влад не ответил.
Фраза художницы в бордовой кофте, рисующей небо, о мальчике Ангеле в тёмном свитере с розовым пятнышком на груди, стоящим у меня за спиной, рубанула мне по темечку топором.
Чудом не убила.
Едва оклемавшись, я со всей очевидностью поняла: это случилось.
Влад не дышал.
Он умер.
* * *
Инга… Её колени, голые и круглые, посиневшие от холода, напоминали две перезрелые тёмно-розовые сливы с тонкой кожицей. В них так и тянуло впиться губами.
Вместо этого я щёлкнул фотоаппаратом.
— Э, ты чё делаешь? — развязным тоном хабалки возмутилась она. — А ну вали отсюда, папарацци недоделанный!
Девицы в её окружении дружно заржали. А я пошёл по своим делам от греха подальше.
Трибуна стадиона за нашим училищем сегодня была полна. Студенческое соревнование по баскетболу вот-вот должно было начаться. И девицы зябли, поёживаясь от колючего осеннего ветра.
Та, что с синими коленками, стараясь согреться, подтянула длинные ноги к животу, плотно их сведя, и, обхватя руками, так, чтоб джинсовая ультра- мини-юбка не выдала белья.
Я не стерпел и снова щёлкнул.
Она угрожающе, глядя мне в глаза, выпустив из рук колени, вскинула вверх средний палец.
Но тут раздался сигнал. Матч начался.
И она, сразу забыв про меня, согласно новому порыву холодного ветра, конвульсивно повела плечами, поглубже закуталась в куртку «на рыбьем меху».
А я же, как человек, которому администрация училища навязала роль фотокорреспондента, принялся за скучную работу.
* * *
Конечно, я знал её имя.
Инга слыла первой красавицей в нашем потоке. Она была похожа на девушку из иностранного журнала. Меня сбивала с толку внешность Инги. Я не мог понять, что делает она здесь, в стенах кулинарного училища?
Я как мог домысливал её выбор.
Иногда ночные фантазии уносили меня далеко, и я представлял, что Инга под хлопанье фейерверков и всполохи конфетти в блестящем белье выпрыгивает из торта.
Как иначе было связать Ингу с едой?
Вот и сегодня я сидел на трибуне, то и дело погладывая в её сторону. Инга, окружённая свитой размалёванных ПТУшниц, и знать не знала, о чём я мечтаю сейчас.
Я же мечтал о конце баскетбольного матча.
Когда с чувством выполненного долга я, наконец, пойду домой, а там закроюсь в тёмной комнате и проявлю фотоплёнки.
* * *
Три дня я набирался храбрости.
Три дня ходил по коридорам училища, будто неприкаянный. А завидев её, пылал ушами и ретировался, некстати вспоминая пословицу «на воре и шапка горит».
«Я не вор! — срывался я в истерику в назидание предательски алеющим ушам. — Наоборот! Хочу подарок сделать».
Но в следующий раз при виде Инги уши накалялись пуще прежнего, до мелкого покалывания в горячих раковинах. Я шёл в туалет и с осторожностью заглядывал в зеркало, опасаясь увидеть по сторонам головы бордовой змеи спиральной плитки.
Потом крутил кран, выпуская холодную струю. И поочерёдно совал в неё уши. И мне уже мерещилось, что уши мои — вовсе не уши. А змеи, которые шипят и ссорятся.
Змей приручить я так и не смог.
Куда там!
Но к ней подойти решился.
— Это тебе, — сказал я Инге, улучив тот момент, когда рядом с ней не было свиты. — Я проявил твои фотографии. Вот… возьми… посмотри. Вдруг понравятся.
— А, это ты, папарацци, — ничуть не удивившись, взглянула на меня Инга. — Ну, давай, раз принёс.
Я отдал Инге конверт, и она, не раскрывая его, сунула снимки в сумку, болтающуюся у неё на плече. И ни слова больше не говоря, ушла по своим кулинарным делам.
А я пошёл в туалет мочить в воде уши.
* * *
Далее события разворачивались с чрезвычайной скоростью.
Инга, привыкшая к грубым ухаживаниям гопников, сильно впечатлилась моим чувственным подарком. Думаю, снимки ей понравились. Иначе как объяснить её порыв? Она предложила мне встретиться.
— А куда ты хочешь пойти? — спросил я девушку, мгновенно сделавшую меня счастливчиком.
— У нас что, белый танец? Дамы приглашают кавалеров? — грубо одёрнула меня Инга.
— Может, в кино? — скороговоркой выпалил я, боясь, что спесивая красавица передумает.
— Скучно, — сделав недовольную физиономию, разочарованно вздохнула Инга.
— В парк?
— Холодно.
— …Ну, давай домой тебя приглашу.
— А кто у тебя дома?
— Нет никого. Я один живу.
— Один? — округлила глаза Инга. — Веди!
* * *
— А где предки твои? — гостья с любопытством осматривала мои двухкомнатные «апартаменты» в хрущёвской пятиэтажке, без тени смущения «суя нос в каждую дырку».
— Мать в Москве… За москвича замуж вышла.
— За москвича? — Инга снова округлила глаза и плюхнулась на диван.
— Ну да, за москвича, — сосредоточенно думая о том, чем занять гостью, рассеянно шаблонно отвечал я на её вопросы, — мама в народном ансамбле на аккордеоне играет… Была на гастролях в Москве. Ну, и познакомились.
— А ты? — Инга настойчиво потрошила моё прошлое.
— А что я? Сперва с бабулей жил… Потом она умерла… Сундуки, ковры, комод — это бабушкины вещи, — как бы извиняясь за «нафталиновый» интерьер своего жилища, пояснил я.
— А мне нравится, — неожиданно заявила Инга.
* * *
Я пошёл на кухню, чтобы приготовить чай. Инга же, попросив включить ей телевизор, бесцеремонно вытянув вдоль дивана свои бесконечные ноги в телесных «капронках» с люрексом, с удовлетворённым видом уставилась на экран.
Когда я вернулся с вазочкой сухого печенья и сахарницей, гостья моя как будто даже удивилась моему появлению.
— А… ты? Чай уже готов?
— Да, присаживайся.
— А можно я печеньки лёжа есть буду?
— А чай?
— А к чёрту чай!
* * *
— Вот что-то я не понимаю, — оторвавшись от «Клуба кинопутешественников» и надкусив печеньку, присела-таки на диван Инга, — вот ты, Вовочка, такой приличный мальчик, а учишься — где попало.
— Почему где попало?
— Ну, в училище в нашем, в отстойном… в кулинарном… Ты чё в нём забыл? — мешала мне соображать шевелением хищных губ въедливая Инга. — У тебя же мать артистка. Москвичка!
— А что мать? Она всегда на гастролях была. Меня бабуля воспитывала… В школу пошёл, сам собой распоряжаться стал… На фотокружок записался, — старался я «держать лицо» перед гостьей, формулируя мысли так, чтобы удовлетворить любопытство собеседницы, — когда бабушка умерла, мне пришлось самому еду готовить… мне это понравилось, поэтому я пошёл в кулинарное училище. А ты почему там учишься?
— А я с подружкой за компанию, — отмахнулась Инга, отвечая на мой вопрос с той интонацией, которая давала понять, что эта тема разговора ей скучна. — Где я ещё могла учиться?
— Как где? — вцепился я в Ингино безнадёжное «где?». — Ты хоть понимаешь, ты хоть знаешь, какая ты красивая?
— Теперь знаю. Я это по фоткам твоим поняла.
И я в первый раз за наше знакомство увидел смущение на лице драгоценной девушки.
* * *
Через неделю Инга снова была у меня.
Теперь к её приходу я подготовился и испёк бисквит.
Гостья, сильно удивившись домашней выпечке на столе, скороговоркой, не придавая веса словам, пробурчала с набитым ртом что-то про то, что дома её вкусняшками не балуют, что мамаша её на всю голову больная и что возвращаться к себе ей вообще неохота.
Меня сильно тронуло её признание.
А кроме того, я не желал в глазах Инги оставаться «тепличным» ребёнком. И выпалил, что однажды моя мать-артистка (ещё до московского мужа) привела сюда, в бабушкину квартиру, любовника для постоянного проживания и что нам приходилось абы как ютиться в двушке вчетвером.
Выслушав мою тираду, Инга, рассмеявшись, назидательно, как сопливого мальчишку, щёлкнула меня по носу пальцем, заявив, что я жизни не нюхал и что моя трагедия — ну просто детский сад!
* * *
А ещё через неделю Инга поселилась у меня.
И я под издевательское улюлюканье гопников со слесарного отделения каждый день дожидался любимую у дверей училища, и мы, опьянённые неожиданной близостью, жались друг к другу и, крепко обнявшись, брели домой.
Я сгорал от любови.
И Инга была очарована.
Ведь дома её ждала тарелка горячего супа. В постели — я, сын московской артистки. А в сумочке на ремне — её красивые фотографии.
Всё для неё.
Инга купалась во внезапно свалившихся ей на голову обстоятельствах, как бездомный щенок, которого взяли да приютили.
Злые языки упрекали Ингу в корысти.
Но кто упрекнёт в неискренности бродячего когда-то собачонка, который заходится в приветственном лае, лижет руки и нос спасшему его хозяину?
И какой хозяин будет от ласк уворачиваться?
* * *
Родился Влад.
Земля покачнулась. Дни слились с ночами.
Из той своей жизни я мало что помню, худую бледную Ингу с огромными блестящими в горе глазами, уродливый бугор посредине тщедушного тельца, молочную кухню.
Инга казалась сильнее меня. Я восхищался её твёрдости. Но однажды мне пришлось позвонить моей матери. Это был жест утопающего человека, который за соломинку хватается.
Мать приехала.
Я помог Инге собрать дорожную сумку. Мы вышли с нею из дома.
Я её проводил.
В наш дом она не вернулась.
* * *
Марину я никогда не любил.
…добрая тихая девочка.
Но я её не любил.
Слишком жилистая, слишком плоская… Водолазка эта её, чёрная, сильно подчёркивала первые морщинки под глазами.
Про нас с Маринкой песня есть: «Вот и встретились два одиночества, Развели у дороги костёр. А костёр разгораться не хочется — Вот и весь разговор».
Сорок лет — мучительный возраст.
— Я стал похож на мёртвого пирата, который приведением скитается по кораблю. Фильм такой есть, — пожаловался я на свою незавидную участь приятелю, когда мы сидели с ним вдвоём в полутёмном тихом баре, — хочу яблоко съесть, выбираю самое красное, самое спелое. Кусаю, а вкуса не чувствую — пресная мякина, хоть сплюнь. Душой и телом я стал вялый.
Как то пережёванное яблоко. Хочу пойти куда, а ноги не несут. Иду работать — скучно. Я стал нелюдимым, старым, злым. Что скажешь, что со мной? Может, мне жениться?
— Женись. Но не ищи любовь, — глубокомысленно изрёк приятель, — за любовь баба с тебя «три шкуры сдерёт». Чтоб женщина любила, надо быть умным, красивым, богатым… Женись на той, что пожалеет. Жалость ничего не стоит. Её бесплатно раздают… Через жалость излечишься.
* * *
— Инга, тебе нужно остаться в больнице, — тогда, много лет назад, сказал я своей возлюбленной.
Она лежала на спине, бледная, как луна. Молчала. Я осторожно, как к драгоценности, прикоснулся к её огненным, почти красным волосам.
— Тебе отдохнуть нужно… Выспаться. Просто выспаться! Ты снова станешь весёлой, как раньше. Помнишь, как ты со своими подружками-ПТУшницами хохотала надо мной. Там, на стадионе? Ну, помнишь?
Инга молчала.
Её мать передала дочери в наследство тяжёлое психическое заболевание.
У старой карги недуг проявился поздно. И разум не сильно глумился над ней, наслав на голову старой ведьме воняющих чертей.
И та, ворча сама с собой, днями напролёт тёрла суровой тряпкой стены и пол, злясь, что повсюду в квартире следы от говённых копыт.
А с Ингой всё было непросто.
Болезнь ребёнка сгустила её недуг, пустив под гору колесом. Врачи считали Ингу сумасшедшей. Опасной. Твердили, что место ей только в больнице. Не дома!
В конце концов, они меня убедили.
Я каждый день был рядом. Инга меня знать не знала. Я гладил её волосы, сжимал её плечи, тряс, вцепившись в казённый халат… Зря.
Рассерженный санитар выдирал её из моих объятий. Грозил пожаловаться врачу.
* * *
Шло время. Но время Ингу не лечило. Совсем наоборот.
В один из дней врач запретил мне свидания. Тогда, чтобы выжить, я пригласил Марину в дом.
И мы втроём (я, Марина и Влад) отпраздновали Новый год.
Марина…
Тогда, десять лет назад, после смерти сына я предал её. Уехал в Москву, там работал фотографом в глянцевом журнале. Весьма успешно.
В столице у меня жилище, оно мне вспоминается из-под крыла забивающего уши свистом приземляющегося самолёта.
Вот оно.
В центре неоново-светящейся сетки-матрицы.
Это столичная высотка.
А в ней, как дева в башне, тоскует та, моя почти пустая холостяцкая квартира, одетая в скупой, не любящий людей хай-тек. Здесь, в этом доме, я многим женщинам дарил красивые фотографии.
Всё хорошо, вот только как же быть с яблоками? Когда-то я почувствую их вкус?
* * *
— Вам нужно ошейник питомцу купить, — сказал ветеринар, суя мне в руки блестящего чернотой, недовольного бесцеремонным к себе отношением, вьющегося ужом котёнка, — побежит на улицу, блох нахватает. У нас хорошие ошейники. Противоблошные.
Я впихнул котёнка в сумку, чиркнул молнией.
— Давайте ваш ошейник, — смиренно огласился я.
— Ассортимент на витрине, — поставил меня перед выбором доктор, — какой хотите?
— Но тут все со стразами, с блёстками, — недовольно пробурчал я, — у меня ж мужик!
— Розовый возьмите. Он без блёсток, — посоветовал ветеринар.
— Того краше! — возмутился я.
— Зря вы так, — не согласился мой собеседник. — Чёрный цвет с розовым хорошо сочетается.
— А!.. Давайте розовый! — обречённо махнул я рукой.
* * *
Перед отъездом я решил наведать Ингу.
Мой родной город встретил меня первым снегом.
Я, с непокрытой головой, в куртке нараспашку, скользил тяжёлыми ботинками по липкой лесной тропинке. Там, между соснами, белой пугающей тряпкой зиял больничный забор.
Инга меня не узнала. Я гладил её волосы, сжимал её плечи, тряс, вцепившись в казённый халат… Зря. Рассерженный санитар выдрал её из моих объятий. Грозил пожаловаться врачу.
В тот вечер, чтобы выжить, я позвонил Марине.
Мы встретились с ней в кафе.
— У тебя волосы полынью пахнут, — чмокнув Чугункову в макушку, а потом расцеловав в обе щёчки, сказал я ей.
— Мне в редакции коллеги подушку с фито-травами подарили, — пояснила Маринка. — Я на ней сплю.
— Одна спишь?
— Одна. А ты с кем свою подушку делишь?
— Таким не делятся… А ты спи на своей фито-подушке. Обязательно спи! У тебя щёчка на вкус горькая, полынная получается.
— А ты шарфик так и не носишь?
— Не ношу. Твой потерял, другого не надо.
— Когда обратно в Москву?
— Не знаю. Я подумал, возьму да не поеду в Москву, лучше махну на какой-нибудь остров. Буду там жить, устроюсь поваром в ресторан, стану готовить на гриле свежую рыбу.
— Когда полетишь?
— А, хоть сегодня.
— Эко тебя мотыляет… Бедный мой Вовочка. Бедный…
* * *
Под Новый год на этом острове пахнет полынью.
Как от Маринкиной щёчки.
Тут, на Средиземноморском острове, всегда так: стоит начать лить зимним дождям, и всё вокруг оживает.
Растения, иссушенные жарким летом, начинают крепнуть, цвести, невеститься и женихаться. И, следуя схеме, не читаемой человеческим разумом, искусно и без усилий сплетать свои атомы-молекулы в «нательные» запахи-ароматы.
Божественно.
Вот куст роз бурно пенится дорогими атласными лепестками цвета бургундского вина.
Но сейчас мне нет дела до его избыточной красоты, до его слишком излюбленного многими парфюмерного аромата.
Запах терпкой полыни, простой и честный — другое дело. Он полыхнул вдруг резко горечью, вздрогнув от ветра.
Одного движения воздуха, запустившего в атмосферу этого вечера полынный дух, хватило сполна, чтобы полоснуть мне душу, наподобие того, как рассекает пространство рьяная лопасть мельницы, чтобы из зёрен сделать муку. А из мыслей моих, тяжёлым камнем повисшим в душе — живые чувства.
В груди жгло.
Так мне и надо.
* * *
Я вытряхнул из дорожной сумки кота.
Он растерянно осмотрелся по сторонам, освоился. Потом понюхал воздух и пока неуверенно потрусил к холодильнику.
Щёлкая языком, вылакал из миски молоко, мною для него налитое. Потом, облизнув довольную мордочку, не глядя на меня, сиганул к зияющей чёрным прямоугольником открытой балконной двери.
Кот чиркнул розовой меткой чернильную ночь и был таков.
«Сбежал», — уныло подумал я. Мне стало невыносимо.
В ту ночь, чтобы выжить, я позвонил Маринке.
— Слышь, Чугункова, ты у меня свои фотки оставила, — сказал я ей, — я ведь помню, ты их забрать обещала.
* * *
Для новогоднего ужина мы купили огромную морскую рыбу.
Володя жарил её на гриле. Я накрывала на стол.
— Что в редакции нового? — спросил Володька, когда мы, наконец, принялись за пиршество.
— Редактор Филина — редактирует. Корректор Вера — корректирует…
— А фотограф Владимир — фотографирует, — весело подхватил мою фразу Вовка и, метнувшись к шкафчику, вынул оттуда нарядную коробочку, протянул её мне.
В коробке лежали снимки.
Десять лет назад Володя запечатлел меня за работой, то склонившуюся над рабочим столом, то с диктофоном в руке, то сидящую на планёрке.
Это были живые фото.
Сделанные исподволь.
Других таких у меня не было никогда.
И уже не будет.
* * *
Я, зная Вовкину привычку ходить с голой шеей, подарила ему лёгкий шарф, согласно здешнему климату.
Вдруг с балкона послышалось настойчивое мяуканье.
Володя встал, открыл дверь.
Чёрное, с лоснящейся шерстью, ловкое животное, мелькнув в пространстве ярко-розовым ошейником, в один прыжок оседлало свободную табуретку.
Кот глянул мне прямо в глаза.
Я отпрянула.
Меня бросило в жар. Вспомнились слова художницы: «Ангелочка рядом с вами вижу… Свитерок у него тёмненький, а на груди пятнышко, маленькое, розовое. Этот мальчик всегда будет хранить вас. Всю жизнь».
— Как кота зовут? — слегка оправившись, спросила я у Володи.
— Может быть, Хвостик? — неопределённо пожал плечами Вовка.
— Он, как хвостик, за тобой увивается?
— Ха, увивается! Он, завидя меня, в сто раз ускоряется!
— Ну, тогда он не Хвостик, а Шустрый Хвостик… Значит, будем втроём Новый год отмечать? Ты, я и Хвостик?
— Значит, втроём, — кивнул Володька и, взяв со стола красное яблоко, с хрустом его надкусил, — м- м-м… Яблоко! Яблоко очень сладкое!