Про шапки, которые на Руси заменяли короны
Много букв о том, почему на Руси у властителей долго не было корон.
Когда я в главе про Казанское царство показывал вам современный герб Казани, я его немного подрезал. Полностью герб столицы Татарстана выглядит вот так:
А вот так выглядит сегодняшний герб Астраханской области.
Вы, разумеется, спросите – что это за шапки сверху, откуда они взялись? А я отвечу – с герба Российской империи.
На Большом Государственном Гербе Российской империи те самые главные гербы, о которых я уже говорил, были увенчаны коронами либо шапками.
И если слово «короны» объяснения не требуют, то «шапками Русского царства» называются те же короны, только используемые до превращения России в империю. Просто наши первые цари носили драгоценные головные уборы не «европейского образца», а выдержанные в самобытном дизайне - напоминавшие украшенные золотом и самоцветами шлемы с опушкой соболиным мехом. Самая древняя и самая известная из этих «шапок» - знаменитая шапка Мономаха, которой венчались на царства все наши самодержцы до Петра Первого включительно.
Вот только одной короной первые цари не ограничивались – до нашего времени дошло семь царских шапок. И вторая по древности из сохранившихся – «шапка Казанская», созданная в XVI веке для Ивана Грозного в качестве короны первого завоеванного им царства. Именно этот хранящийся ныне в Оружейной палате головной убор и украсил щит Казани на имперском гербе.
Кроме нее, на Большой герб попали еще четыре шапки.
Шапка Мономаха традиционно украшала уже знакомые нам гербы трех древних столиц.
Герб Царства Херсонеса Таврического, то есть Крыма, увенчан короной Петра Первого, она же «шапка Мономаха второго наряда». Эту копию знаменитого венца создали, когда венчать на царство пришлось двух царей одновременно – Ивана V Алексеевича и Петра I Алексеевича.
Герб Царства Сибирского украшен так называемой «Алтабасной шапкой», то есть парчовой, она же «вторая Сибирская».
Ну а герб Царства Астраханского, как нетрудно догадаться, украшен «шапкой Астраханской», также хранящейся в главной сокровищнице страны, но «построенной» в 1627 году для первого Романова, царя Михаила Федоровича. При этом большинство исследователей считают ее «второй Астраханской шапкой».
Очень красивое, надо сказать, сооружение. Вот живописная копия Ф. Солнцева

Куда же делись «первая Сибирская» и «первая Астраханская» шапки?
О! Это весьма интересная и почти детективная история, расследование которой блестяще провел историк Александр Лаврентьев.
Как я уже сказал, Романовым достались только две шапки – Мономаха и Казанская. Но не было ли у предыдущей династии и других корон?
Вот несколько цитат.
В завещании Иван Грозный писал:
Да сына же своего Ивана благословляю царством Руским, шапкою мономаховскою, и всем чином царским, что прислал прародителю нашему, царю и великому князю Владимеру Мономаху, царь Константин Мономах из Царяграда. Да сына же своего Ивана благословляю всеми шапками царскими и чином царским, что аз промыслил, и посохи, и скатерть, а по немецки центурь».
Значит, кроме мономаховой, были еще «шапки», то есть – больше одной. Сколько же их было?
Ответ на этот вопрос мы находим в «Записках о России…» английского дипломата Джерома Горсея:
Царь сидел в полном своем величии, в богатой одежде, перед ним находились три его короны , по обе стороны царя стояли четверо молодых слуг из знати, называемых «рынды», в блестящих кафтанах из серебряной парчи с четырьмя серебряными топориками.
На знаменитой картине Александра Литовченко «Иоанн Грозный показывает свои сокровища английскому послу Горсею», написанной в 1875 году, шапок, правда, всего две, и обе опознаются на раз – это шапка Мономаха и Казанская шапка.
Но это связано в первую очередь с личностью самого художника, который месяцами сидел в Оружейной палате, зарисовывая русские древности. Даже в каталоге Русского музея отмечается: «Литовченко принадлежал к числу художников, в произведениях которых недостаток живописного темперамента, а подчас и психологической убедительности искупался безусловной достоверностью в воссоздании исторической обстановки». О том же говорит в своих воспоминаниях и Петр Полевой: «Особенно приятно поражала меня в Литовченке его любознательность, его желание узнать, как можно больше об излюбленной русской старине, его жадность в собирании и накоплении о ней сведений и всякого рода материалов. Чуть бывало увидит новые фотографии, новые книги по археологии, сейчас ухватится за них, попросит дать ему на время — и все выспрашивает меня, и извлекает из-под спуда неизвестное ему и страстно любимое».
Проблема в том, что о третьей шапке, которая у историков зовется «первой Астраханской», почти ничего не известно – вот дотошный Александр Дмитриевич и не рискнул ее изобразить.
Однако «почти ничего не известно» - не означает «совсем ничего не известно».
В записках европейских путешественников, побывавших в России, частенько упоминается высокая корона европейского образца, мало похожая на традиционные русские «шапки».
О высоком венце, напоминавшей папскую тиару, пишет, в частности, прибывший с посольством к Грозному кардинал Антонио Поссевино: «она немного больше, чем тиара папы, а, впрочем, от нее не отличается».
Фрагмент картины Яна Матейко «Баторий под Псковом». Слева, в черной сутане – иезуит Поссевино.
Ему вторит и имперский посол Иоганн Пернштейн, который во время приема в Грановитой палате в 1575 г. наблюдал у Ивана Грозного «венец почти такой же, как корона […] Папы, хранящаяся в замке Сант-Анджело».
Как мы знаем, и шапка Мономаха, и Казанская шапка, дожившие до наших дней, папскую тиару совсем не напоминают. Значит, у покорителя трех царств была еще одна «шапка». Откуда она взялась?
Ответ на этот вопрос мы знаем из довольно неожиданного источника – от средневекового мэра провинциального городка.
В те времена старостой Орши, ныне белорусского, а тогда пограничного литовского города, был человек по Филон Кмита. Или, если полностью, Филон Семенович Кмита-Чернобыльский. Вторая, пугающая часть фамилии происходит от Чернобыльского замка, пожалованного ему королем Сигизмундом II Августом. Вот другой фрагмент все той же картины Яна Матейко «Баторий под Псковом», Филон Семенович в центре, с длинными усами.
Весьма активный, надо сказать, был градоначальник, живо всем интересовавшийся, целенаправленно занимавшийся сбором информации о России и Литве и имевший связи в самых высоких кругах. Он переписывался даже с Иваном Грозным, в описи архива Посольского приказа числился, например, «лист, писал к царю и великому князю Ивану Васильевичю из Литвы Филон Кмита, староста ошмянский». А переписка Филона Семеновича с королем Польским и Великим князем Литовским и другими государственными особами уже дважды переиздавалась. Эти «листы» интересны тем, что представляют собой служебные донесения о военно-политическом положении на восточном рубеже польской границы.
В одном из этих листов староста Орши докладывает, что его «пташки» нашептали ему, что «дей с королевства Английского привезена князю великому коруна, вельми коштована (очень дорогая)», которая «так высока, мало не локоть». За эту самую «коруну» Грозный, дескать, выложил соболей на безумную сумму в 230 тысяч рублей. Исследователь А. Л. Хорошкевич писал, что привезенный из Англии венец «должен быть западноевропейским по форме и технике исполнения», а исследователь А.В. Лаврентьев, тщательно исследовав вопрос, приходит к выводу, что изготовленная английскими мастерами «Астраханская корона» была передана Грозному в июне 1571 г. в «опричной столице России» - Александровской слободе.
Сделал это представитель британской Московской компании Энтони Дженкинсон. А за два года до этого, в 1569 году Московская компания получила, наконец, от Грозного привилегию, которую они так долго выпрашивали – разрешение на транзитную торговлю с Персией через Астрахань. Судя по всему, именно тогда «царь и великий князь» и заказал англичанам корону в честь своей победы.
Возникает закономерный вопрос – а куда же в таком случае делась эта «астраханская корона»?
Забежим немного вперед. Существует картина, написанная неизвестным художником в 1632 году, и изображающая преставившегося польского короля Сигизмунда III на катафалке.
Мы видим здесь две короны. Рядом с изголовьем лежит шведская корона, а на голове у Сигизмунда, как аттестовали ее современники, «korona <…> z Moskwy przywieziona». Все понятно даже без перевода.
И действительно, как мы видим, так называемая «московитская корона», многократно упоминаемая в различных польских источниках, весьма напоминает папскую тиару. Как же она попала в Польшу?
Стараниями одного из самых близких клевретов Лжедмитрия I, стольника Михаила Молчанова.
Был на Руси такой чиновник Михаил Молчанов – ничем особо не примечательный. Служил при дворе Бориса Годунова, был как все, делал карьеру, в 1601 году выбился в стольники. Ничем особо не отличался – ну цапался с коллегами, ну жаловался на сослуживца, дьяка Алексея Карпова, который при совместной проверке кабацких старост обозвал его «вором» - ну а у кого не бывает конфликтов на службе? Все люди, все человеки.
При других обстоятельствах стольник Молчанов так и дожил бы до старости, выслужив себе поместье какое, и помер бы, ничем никому не запомнившись.
Но начались смутные времена, и поперла из человека вся дрянь, что в нем пряталась.
Дело даже не в том, что Молчанов перешел на сторону Лжедмитрия – многие тогда перешли, многие поверили, что он и есть спасшийся царевич Дмитрий.
Дело в том – кто как служил.
Стольник Михалко Молчанов начал службу Самозванцу с того, что стал убийцей Годуновых.
Именно он в компании с Василием Голицыным, Петром Басмановым, Василием Рубцом-Мосальским и Андреем Шерефединовым в сопровождении трех стрельцов ворвался в тот памятный вечер в дом Годуновых.
Тогда они и расчистили своему патрону дорогу к трону.
Вдовствующая царица, дочь Малюты Скуратова и жена Бориса Годунова Мария и юный 16-летний царь Федор были удавлены веревками. В живых оставили только 23-летнюю красавицу Ксению Годунову, которую Самозванец сделал своей наложницей. А потом, когда поляки возмутились - что это, мол, ты, при живой-то Марине Мнишек - насильно постриг в монахини.
Н. Неврев. «Ксения Борисовна Годунова, приведенная к самозванцу». До 1883 года.
И хотя все пятеро убийц после этого вошли в ближний круг нового царя, столь страшное начало карьеры счастья никому не принесло.
Старый сморчок дьяк Шерефединов, который, несмотря на 70-летний возраст, тоже набился тогда убивать царскую семью, после воцарения Дмитрия затаил обиду, сочтя полученную царскую милость недостаточной. Ввязался в заговор Шуйского, сам вызвался убить самозванного царя.
После раскрытия заговора был схвачен, висел на дыбе над огнем, но упрямством старикашка еще и с другими мог поделиться. Так и не раскололся, выжил и дожил до воцарения Шуйского. Однако вместо милости старикашка получил лишь новое следствие – на сей раз за убийство Годуновых. До приговора престарелый авантюрист, которому было уже под восемьдесят, правда, не дотянул – наконец-то помер ко всеобщей радости.
Князь Васька Голицын, отправленный Годуновым против Лжедмитрия, но перешедший на его сторону, стал профессиональным предателем. Участвовал в свержении и Лжедмитрия (был один из организаторов заговора в 1606-м году), и Василия Шуйского. Отправленный во главе русского войска против Тушинского Вора, бежал с поля боя, потом попал в польский плен, где и помер, не оставив потомства.
Петьку Басманова кончили восставшие москвичи одновременно с Лжедмитрием. Помер сын и внук знаменитых опричников, правда, достойно – остался верен Самозванцу до конца, с саблей в руках рубился в дверях, не пуская путчистов к «царю», но был заколот Михаилом Татищевым.
К. Вениг. «Последние минуты жизни Лжедмитрия I». 1879 г. Рядом с самозванцем – Петр Басманов
Позже обезображенные и обнаженные тела Басманова и Самозванца выложили на всеобщее обозрение на Красной площади на Лобном месте, где их за пару дней так забросали грязью и навозом, что черты лица было уже не разобрать, и это стало поводом для слухов - мол, бояре подложили чужое тело, а сам царь чудесно спасся.
Самый хитрый из убийц, князь Василий Рубец-Мосальский, внук князя Клубка-Мосальского, пережил всех. А ведь это в его доме заперли тогда Ксению Годунову, это он ездил в монастырь к последней жене Грозного Марфе Нагой и уговорил ее признать в Самозванце сына, это его отправили в Смоленск встречать Марину Мнишек и сопровождать ее в Москву.
К. Маковский. «Агенты Дмитрия Самозванца убивают сына Бориса Годунова». 1862 г.
Сам же Молчанов во время убийства Самозванца был схвачен, бит кнутом, но сумел-таки утечь из Москвы, да не пустым бежал. Современник и участник тех событий, голландский купец и дипломат Исаак Масса, писал в своей «Истории московских смут»: «Едва только его [Димитрия] убили или едва успел распространиться о том слух, как Михаил Молчанов, который был его тайным пособником во всех жестокостях и распутствах, бежал в Польшу, и [после его бегства] пропали скипетр и корона, и нe сомневались, что он взял их с собою».
Вместе с подельниками Молчанов украл не только царские регалии, но и царских лошадей, и, самое главное, царскую печать, из-за чего вскоре на Русь хлынули указы «счастливо спасшегося царя Дмитрия». Молчанов бежал в Польшу, где обосновался у тещи Самозванца (тесть, Ежи Мнишек, тогда вместе с дочерью находился в русском плену в Ярославле) и принялся активно распространять слухи, что «царь Димитрий» чудом спасся и жив.
М. П. Клодт. «Марина Мнишек и ее отец Ежи Мнишек под стражей в Ярославле» (1883 г.)
Поначалу Молчанов, активно пользуясь короной и печатью, выдавал себя за царя, но довольно быстро был разоблачен.
Избранный на российский престол после смерти Самозванца Василий Шуйский отправил в Польшу посольство. Там русским послам сразу же заявили: «Государь ваш Дмитрей, которого вы сказываете убитого, жив и теперь в Сендомире у воеводины жены».
На это глава посольства, князь Григорий Волконский, заявил, что у Мнишков сидит самозванец, скорее всего «Михалко Молчанов» и предложил «царю» показать спину, где наверняка сыщутся следы кнута.
Сохранился даже словесный портрет «царя», данный по просьбе Волконского польской стороной: «возрастом не мал, рожеем смугол, нос немного покляп (горбатый), брови черны, не малы, нависли, глаза невелики, волосы на голове черны курчевавы, ото лба вверх взглаживает, ус чорн, а бороду стрижет, на щеке бородавка с волосы; по полски говорить и грамоте полской горазд, и по латыне говорити умеет». Русские рассмеявшись, заявили, что это точно Молчанов, а «прежний вор расстрига был лицом не смугл и волосом рус».
Именно тогда заговорщикам стало понятно, что из Молчанова царя не сделать и надо искать кого-нибудь менее известного и более похожего на прежнего царя. Новым претендентом на российский престол стал найденный ими в Витебске мелкий авантюрист, оставшийся в истории как Лжедмитрий II, также известный как «Тушинский вор».
Лжедмитрий II . Гравюра неизвестного художника XIX века.
А все, что успел в качестве царя Михаил Молчанов – это принять явившегося в Польшу Ивана Болотникова, человека весьма бурной даже по тем временам биографии. Бывший холоп князя Телятевского, еще мальчишкой бежавший в степь к казакам, однажды попал в плен к крымским татарам и был продан в рабство туркам. Несколько лет ворочал веслом на турецкой галере. После поражения турок в морском бою был освобожден немцами и осел в Венеции, где жил в знаменитом подворье Фондако деи Тедески. Там-то, случайно услышав о наступивших «веселых временах» на полузабытой родине, отправился через Германию и Польшу домой…
В Польше его принял Молчанов, выдававший себя за царя. Долго беседовал с бывалым человеком, и по итогу присвоил страннику должность «большого воеводы», вручил 30 дукатов, саблю, бурку и письмо к своему подельнику князю Григорию Шаховскому, сидевшему в Путивле.
Так началось восстание Болотникова.
Неизвестный художник. Болотников является с повинной перед царем Василием Шуйским.
Но и Молчанов в Самборе долго не просидел. Польский король, которого вконец достали эти окопавшиеся в его державе польско-литовско-русские авантюристы, дал указание зачистить это змеиное гнездо и решить проблему раз и навсегда. Коронный канцлер Лев Сапега отправил в Самбор коронного секретаря Яна Гридича с солдатами, и Молчанов с товарищами едва успели унести ноги, бросив в замке у Мнишков украденную «астраханскую шапку».
После захвата этого трофея у польских королей и появилась знаменитая "московитская корона".
А Михайло Молчанов от судьбы бегал еще долго – скользкий был, гад.
Кончили его только в 1611 году во время восстания москвичей против поляков, вместе с таким же вертким и удачливым подельником - князем Рубцом.
С тем и кончились на Руси убийцы годуновские - эти двое были последними.
А поляки свою "московитскую корону" во время шведского вторжения, называемого ляхами «Шведским Потопом» разобрали и переплавили, но вскоре, после истерики в парламенте, спохватившись, и изготовили новую версию «corona moscoviae», совсем не похожую на первую. С ней тоже не задалось – «вторую московитскую корону» вместе с пятью другими коронами польских королей отдали в залог за долги бранденбургскому курфюрсту Фридриху III Гогенцоллерну, будущему королю Пруссии Фридриху I.
У немцев польские инсигнии и хранились много десятилетий – до самого раздела Польши, после чего их, по слухам, переплавили за отсутствием в мире такой страны.
И даже следа от нашей «астраханской шапки» не осталось.
Уф... Наконец-то эта длинная история закончилась.
Вы скажете – хорошо, с астраханской понятно, а что с сибирской шапкой?
А вот об этом – в следующей главе.
________
Это глава из моей книги о русской истории "Царский титул в картинках". Из этой книги вы узнаете, за сколько телег серебра Россия купила у Польши Киев, отчего символом северного города Владимира стал африканский лев, и почему у него железная корона - одна из трех известных в мировой геральдике, откуда у реального правителя Новгородского государства "боярина Якова Пунтосовича" такое странное отчество и многое, многое другое.
Подписывайтесь, обновления ежедневно, кроме выходных!
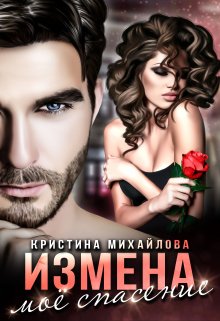
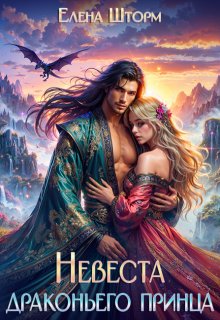

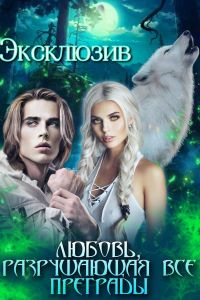

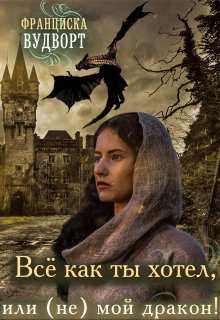
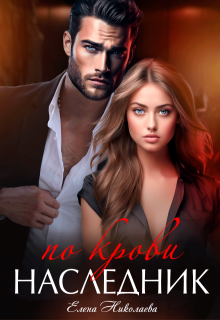



0 комментариев
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарий
ВойтиУдаление комментария
Вы действительно хотите удалить сообщение ?
Удалить ОтменаКомментарий будет удален безвозвратно.
Блокировка комментирования
Вы дейтсвительно хотите запретить возможность комментировать ?
Запретить Отмена