Интервью с Дмитрием Шатиловым ("232")
Дж. и С. Эйр: Дмитрий, здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, о вашем романе «232». У него очень необычное название – одни цифры. Вы не боялись, что читателя, который только знакомится с вашей книгой, это отпугнёт? Ведь, по сути, из названия ничего не понятно.
Дмитрий Шатилов: На свете много вещей, способных отпугнуть читателя – например, буквы и бумага, на которой они написаны. Что же касается названия, то это не такой простой текст, чтобы называть его «Пирам и Фисба», но и не такой сложный, чтобы изобретать что-то вроде ««Необычайные похождения Хулио Хуренито и его учеников: мосье Дэле, Карла Шмидта, мистера Куля, Алексея Тишина, Эрколе Бамбучи, Ильи Эренбурга и негра Айши, в дни Мира, войны и революции, в Париже, в Мексике, в Риме, в Сенегале, в Кинешме, в Москве и в других местах, а также различные суждения учителя о трубках, о смерти, о любви, о свободе, об игре в шахматы, о еврейском племени, о конструкции и о многом ином».
В конечном счете, это роман о двухсот тридцати двух людях, даром, что на самом деле их двести тридцать три и даже двести тридцать четыре. Это их история – о чем еще должно говорить название?
Дж. и С. Эйр: Вы подчёркиваете, что герои романа – проигравшие, а историю пишут победители. Что подтолкнуло вас написать именно о проигравших? Роман о победителях был бы веселее и приятнее.
Дмитрий Шатилов: Нет, что победители пишут историю – этого я не подчеркиваю. Ситуация такова, что они ПЫТАЮТСЯ ее писать, это естественное человеческое желание – создать о себе миф, оправдать свою победу, приписать себе функции добра, а противнику – функции зла. Проблема в том, что история не имеет конца, и рано или поздно находится человек, который ставит перед собой иную задачу, нежели сочинение румяных политических сказок. Он, разумеется, рискует, и оказаться непонятым – для него проблема наименьшая, но таким образом выражается другая сторона человека – стремление к истине. И если прошлое можно спрятать, свидетельства и документы – уничтожить, то само это желание знать правду убить нельзя. Рано или поздно найдется человек, который по самым разным причинам – большим ли, малым – захочет понять, как все было на самом деле. И история, пусть и переписанная тысячу раз, будет союзником именно ему – просто потому, что она больше любых победителей, желающих ее переписать, и это они находятся в ней, а не наоборот.
Можно сказать, такой искатель правды будет чем-то вроде ее агента, с его помощью история проверит свою жизнестойкость и способность развиваться далее.
Но я отклонился от темы. Почему проигравшие? А почему бы и нет? Проигравшие – это не люди? У них не было своих задач? В конце концов, все, что происходит в мире между людьми – это взаимодействие интересов, страстей, точек зрения, желаний, идей, намерений и планов.
Почему о проигравших пишет леди Томлейя? Во-первых, в пику своим коллегам, прославляющим победителей. Возможно, ей просто не нравится китчевая и тенденциозная литература, устраняющая из поля зрения читателя все, что может его смутить, заставить задавать вопросы, интересоваться не тем, чем следует согласно официальной позиции общества. Возможно, ею движет желание справедливости, и она готова дать слово даже дураку – и даже в том случае, если за его глупостями действительно нет ничего, кроме дурачества. Можно назвать это уважением к праву голоса, а можно – уважением к человеку вообще.
Во-вторых, Томлейя и сама чувствует себя проигравшей, пускай она жива и здорова. У нее не может быть детей, она обременена своим даром и своим проклятием. К кому она должна испытывать интерес, как не к себе подобным? Кроме того, есть и другой личный момент. Процитирую:
Снова и снова переживая в голове эту сцену, Томлейя всякий раз испытывает волнение и странное чувство узнавания. Чувство это знакомо ей еще с первой книги – как если бы каждый ее герой, оставаясь собой, был в то же время и кем-то другим, забытым, но бесконечно дорогим и трогательным.
Пока идет работа над «Двести тридцать два», писательница нередко засыпает прямо за рабочим столом, уронив на рукопись усталую голову. Книги не оставляют ее и во сне: Зумм, скачущий на помощь королеве, одинокий Бжумбар в своем бревенчатом домике, Гураб Третий, отказавшийся от меча, и, наконец, Глефод, поднимающий голову под градом мусора, непобедимый воин в кафтане шута – все эти образы накладываются друг на друга, сливаются в один, и тогда из серой хмари забвения, из ледяного колодца памяти встает высокий седой человек, идущий против разъяренной толпы – высокий седой человек, держащий за руку остроносую девочку в глухом синем платье.
Во сне Томлейя плачет и кричит: «Папа!», а проснувшись – не помнит уже ничего. При свете дня ее мощный разум берет свое, и наяву она решает совсем другие задачи.
Мало кто обратил внимание на эти два абзаца, но всех четырех своих героев Томлейя выбрала в протагонисты потому, что они были похожи на ее отца. У нее явно была какая-то личная трагедия в прошлом – не знаю, правда, какая. Но настоящий герой ее книг явно потерпел свое поражение для того, чтобы она осталась жива.
И она забыла об этом – или ее заставили забыть. И вот она пытается вспомнить, пускай и посредством книг о других. Наверное, ее главная книга еще не написана.
И в конце концов – разве проигравшие никогда не жили, не участвовали в истории? Почему они должны быть забыты, а их вклад в человеческую жизнь обесценен?
Кроме того, я лично испытываю большое удовлетворение, когда обнаруживаю, что тот или иной персонаж при близком рассмотрении пусть капельку, но выбивается из роли, которую ему отвели историки – что в каждом есть нечто, не поддающееся учету, нечто бесконечно глубокое, бесконечно интимное и определяющее человека, как личность; нечто такое своевольное, прекрасно-противоречивое, что никогда не позволит ему окончательно превратиться в мертвую шестеренку нашего лучшего из миров. Оно, конечно, может быть совершенно маленьким и ничтожным, не без этого, но оно может и двинуть человека в бой. И – внимание! – даже если человек в этом бою обречен на поражение, позор и забвение, его верность этим своим случайно возникшим ценностям заслуживает определенного уважения.
Если человек с полным осознанием решил поступить, как дурак и безумец – он имеет на это право, если осознание действительно было – или стало в какой-то момент – полным. Что ему полагается за это – совсем другой вопрос. Скорее всего, ничего, кроме мысли, что он поступил так, как считал нужным.
Что же касается легкости и приятности… Ну, каждый хочет написать книгу, которую было бы приятно и легко читать, вопрос в том, что задачи постепенно меняются. Что значит – веселее и приятнее? Мы родились только для того, чтобы веселиться и получать удовольствие? Кто это сказал? Мы действуем в реальности, которая опровергает подобные утверждения. В конце концов, мы умираем даже сами по себе, без посторонней помощи – и умирают наши родные и близкие, друзья и домашние животные. И мы вынуждены жить с этими потерями и учиться принимать их, как неизбежное. Такова логика нашего существования, и ее нельзя отрицать просто потому, что ничего другого у нас нет. Я не хочу сказать, что нужно ненавидеть мир за существование смерти, но и отрицать ее тоже не имеет смысла. Это реальность, и ее законы нельзя игнорировать даже в художественном произведении.
Задайте себе вопрос: хрупкий человек по собственной воле идет против неодолимой силы, горстка людей выступает против огромной армии – чем может закончиться эта история? Уничтожением этого человека и этой горстки. Трагедией. И это совершенно объективный результат, вытекающий из соотношения сил. Человек может думать, что угодно, равно как и его соперник, но материальный мир неизбежно расставит все по местам. Возможен ли хэппи-энд при таком исходе? Нет. Возможна ли победа? Аналогично. И нужно держаться правды, пусть даже она горька. И нужно учиться видеть в этой горечи проявление сил, управляющих историей.
А писать приятные историйки с определенными маркерами для определенной ЦА – ну, кому от них приятнее, в самом-то деле? Ни одна комбинация букв не сделала мир лучше. Из вежливости мы пишем авторам, что их книги изменили нашу жизнь, но все равно поступаем лишь в соответствии с собственными побуждениями, с продуктами нашей внутренней работы, которые в совокупности образуют огромную сеть, опутывающую нашу жизнь.
Впрочем, я не против историй о победителях, просто их надо писать правильно. Те же истории о победителях, что строчат наши фантасты, внушают людям ложное понимание ситуации.
Дж. и С. Эйр: А каково самому было стать победителем? («232» занял первое место в конкурсе издательства «Параллель» - «Мимо серии»).
Дмитрий Шатилов: Во-первых, это было не первое место, а одно из. Во-вторых, если говорить о чувствах, то я ощутил радость, облегчение и, пожалуй, некоторую печаль. Нет, я опечалился не потому, что меня решили опубликовать. Тщеславие мое было более или менее утолено. Три года назад у меня мог выйти в «Эксмо» первый роман, но закрылась серия, и, к счастью, этого не произошло. Почему к счастью? Серия с треском провалилась, и никто бы не стал разбираться, почему. Авторы не продались – виноваты только авторы, так решает книжный рынок. Печаль же я испытал потому, что я достиг, чего хотел, и оказался перед некоторой пустотой, кроме того, писание романа отняло немало сил, а еще – еще, пожалуй, я подумал о том, как сильно повезло мне, и сколько на свете талантливых людей, на которых такое везение не свалилось.
Давайте серьезно: в чем разница между текстом опубликованным и неопубликованным? Это одни и те же буквы, одни и те же эмоции. От того, напечатало ли текст издательство, смысл этих абзацев и строчек не меняется ровным счетом никак. Меняется лишь отношение, и зависит оно от того, товар ты или нет. Не стань я лауреатом «Мимо серии» - «232» был бы все тем же, но я – я оставался бы крикуном и неудачником, достойным лишь насмешек. Да, неудачником способным, не без таланта – но и только. Пустоцвет, пустобрех, бросовая монета. Было бы просто неприлично утверждать, будто я всего добился сам. Да, я смог заявить о себе, привлечь внимание, меня заметили и прочитали, и оценили мои определенные способности – но если бы не заметили, не прочитали, не оценили? Если бы рядом банально не оказалось бы людей, заинтересованных в моей книге? Я не стал бы хуже, нет – но везение все равно есть везение, и отрицать его глупо. С той же вероятностью я мог бы и по сей день сидеть на Литнете, устраивать ненужные споры, портить себе нервы – и то, что я мог бы сказать, так бы и осталось несказанным и не нужным никому, кроме меня.
Так что здесь у меня нет особых иллюзий. Многое решает случай, и сколько людей, подобных мне, так и не смогло сказать свое слово? Скольких поглотила и переварила сетература? Сколько сгнило в бесконечных и бесплодных спорах на литературных форумах – спорах, в которые, за неимением другого назначения, ушли все их способности?
Вы, кому удалось – помните тех, кто пытался. Перед тем, как пировать на костях, следует хотя бы помолиться.
Дж. и С. Эйр: Главный герой в вашем романе совершает Поступок, идёт против истории и ведёт за собой других, хотя он совсем не лидер. В итоге всё равно проигрывает, а вы оставляете открытым вопрос: нужно ли совершать такие вот Поступки или проще и приятнее плыть по течению. Почему? Или у вас нет ответа?
Дмитрий Шатилов: А у вас он есть? Классический подвиг – это действие, предназначенное герою судьбой, подтверждающее его избранность и утверждающее ее. Есть судьба – есть необходимость в подвиге. Так строится порядок вещей, так получается осмысленный мир. Но мы живем в современном мире, мы не древние греки, не скандинавы и не германцы, острого ощущения судьбы у нас нет и не может быть. Поэтому вопрос подвига у нас является вопросом индивидуальным, на него каждый должен отвечать сам. У Глефода были причины поступить так, как он поступил, у других людей были причины считать его дураком и безумцем. И тому, и другому мнению легко найти оправдание, это вопрос интерпретации, и только. В истории нет ничего заведомо необходимого и заведомо бесполезного, и нельзя сказать, кто счастливее – живой или мертвый, равно как и нельзя сказать, кому из них проще.
Этого мы банально не знаем.
Дж. и С. Эйр: Откуда это совсем не мистическое число «232»?
Дмитрий Шатилов: Эти цифры приятно звучат для моего уха.
Дж. и С. Эйр: Каково это – писать неформат?
Дмитрий Шатилов: Неформат? Неформат – это не показатель качества, это просто неспособность уместиться в те или иные рамки. Так можно назвать текст-глыбу, который непросто протолкнуть в литературу, но можно назвать и текст-лужу, просто-напросто неспособный сохранять какую-либо форму. «232» - это неформат только в нынешних обстоятельствах, когда рамки жанров сузились настолько, что в них помещается продукция исключительно определенной формы. Я бы назвал свою книгу более или менее приличной фантастической версией модернистского романа – скорее, менее чем более.
Но мы говорим об ощущениях, не так ли? Что ж, представьте себе, что вы делаете довольно непростое и нервное дело, которое толком никому не нужно, кроме вас; что вас, скорее всего, не опубликуют, а куча народу будет смеяться над вашими попытками выразить какие-то свои идеи, и в лучшем случае вас прочитают так же, как и любой другой вздор.
Как-то так. Мне повезло, но ощущение есть ощущение, и его испытывает всякий, талантливый или нет, когда оформляет свои интуиции, не прямо кореллирующие со временем, в котором он живет. Всегда есть риск, что тебя не услышат, поскольку ты не попал в струю.
Дж. и С. Эйр: Вы сами довольны романом? Причислили бы вы его к высокой прозе?
Дмитрий Шатилов: Я никогда не доволен своими вещами, по крайней мере – на продолжительный срок. Я рад, что отделался от него, и не хочу к нему возвращаться, поскольку бороться с искушением переделать его в соответствии с новыми своими представлениями – задача для меня почти невыносимая.
И я не стал бы говорить о высокой прозе. Это – нормальная проза. Повторюсь, более или менее нормальная проза, выросшая в ненормальной, больной, патологической среде.
Дж. и С. Эйр: И, напоследок, какими вы видите читателей этого романа?
Дмитрий Шатилов: Меня читали шестнадцатилетняя девочка, композитор, участник Майдана, военный врач, программист, театральный кассир, продавец триммеров и практикующий терапевт. Полагаю, я вижу читателей этого романа человеческими существами. Он нужен будет далеко не всем, но тем не менее.
Дж. и С. Эйр: Какие ещё у вас есть книги, и какие темы вас увлекают?
Дмитрий Шатилов: На этот вопрос отвечать выйдет слишком долго.
Дж. и С. Эйр: Какие ваши три самые-самые любимые книги (других авторов)?
Дмитрий Шатилов: «Осмотр на месте» Лема, «Вообрази себе картину» Хеллера, рассказы Кордвайнера Смита – и четвертая с пятой, в нарушение вопроса – «Зависть» Олеши и «Бритый человек» Мариенгофа.
Дж. и С. Эйр: Если бы вас попросили описать себя пятью словами, какие это были бы слова?
Дмитрий Шатилов: усталый, толстый, раздражительный, впечатлительный, непостоянный
Дж. и С. Эйр: Как вы относитесь к критике?
Дмитрий Шатилов: Так получилось, что мною критики еще не занимались, поэтому не знаю, как я к ней отношусь. Буду злиться, возможно – ругаться матом.
Дж. и С. Эйр: И, напоследок, что бы вы пожелали читателям?
Дмитрий Шатилов: Почаще заниматься любовью – это очень правильное занятие.
Большое спасибо!
_________________


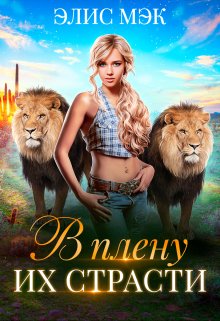


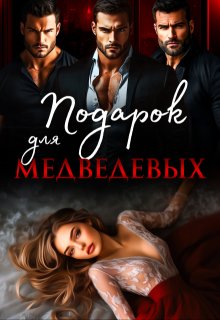



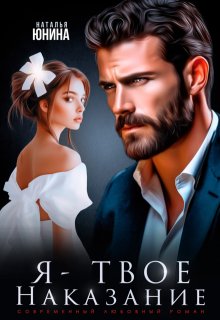
5 комментариев
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарий
Войтиух ты, все дороги ведут на литнет, натолкнулась на рецензию со ссылкой на это интервью https://catofoldmemory.livejournal.com/227506.html
Ого. Захотелось прочесть после интервью) даже обзор еще не открывала)) спасибо за рекомендацию!
Ну, если ответ на основной вопрос во Вселенной - 42, почему бы и роману не называться подобным образом?
Крутяк!
Да, интересное интервью. Спасибо!
Удаление комментария
Вы действительно хотите удалить сообщение ?
Удалить ОтменаКомментарий будет удален безвозвратно.
Блокировка комментирования
Вы дейтсвительно хотите запретить возможность комментировать ?
Запретить Отмена