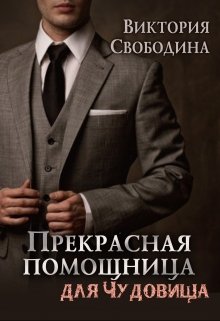Вечера на хуторе близ Диканьки или сон Арины.
Вечера на хуторе близ Диканьки или сон Арины.
Не зная, чем заняться Арина взяла любимую книгу «Вечера на хуторе близ Диканьки», завалилась на кровать и погрузилась в мир Гоголевских героев. Глаза начали слипаться, но история перед ней разворачивалась увлекательная.
«Красавица наша задумалась, глядя на роскошь вида, и позабыла даже лущить свой подсолнечник, которым исправно занималась во все продолжение пути, как вдруг слова: «Ай да дивчина!» – поразили слух ее».
«Как смешно звучит «лущить подсолнечник»», - сквозь сон подумала Арина и продолжила чтение.
«Жили они на казачьем хуторе давненько, а вот, поди ж ты, всё равно чужими оставались. Историю Аньки - знахарки все двадцать пять дворов помнят.
Объявилась как-то поутру возле избы Митьки-Костыля молодая девка лет двадцати от роду, оборванная, чумазая и с животом выше носа. Кто такая, откуда – никому неведомо.
Митька поутру на крыльцо вышел, костыль к стене прислонил, потянулся сладко, зевнул так, что чуть челюсть не вывихнул, глядь, а возле евоного плетня девка сидит, на сносях, того и гляди родит.
Митяй давай девку-то рассматривать. Волосы спутанные, висят сосульками, лицо в саже, а сама худющая, один тока живот и остался. Босые ноги в кровь сбиты, на коленки сорочку натянула, а сорочка-то вся рваная и грязная.
Уставилась девица на Митьку, бирюком бачит и молчит.
«Беглая» - первое, что Митьке в голову пришло. – Откудать сбежала.
Ну, Митька, конечно, в расспросы пустился, кто, мол, ты такая, красавица, чья будешь? А та сидит глухарь глухарем, только зенками лупает. Поначалу думали, что немая к ним прибилась.
Посовещались хуторяне, с атаманом станичным, Василием Петровичем погутарили, и порешили, что гнать девку не будут. Не от хорошей жизни пузатая-то в бега подалась.
Возле леса избушка заброшенная стояла, там бабка Федотья раньше жила, да уж года два как её схоронили. Туда беглянку и определили. Хуторские бабы по сундукам пошукали, барахлишка ей на первое время насобирали, да утвари кухонной немного, в хозяйстве ж всё надобно, всё сгодится.
Дева аккуратницей оказалась, рукастой, жила тихо, собирала в лесу грибы, ягоды, травы лечебные. Огородишко небольшой возле дома разбила. Цветков нехитрых у калитки насажала.
Жонки хуторские её вроде, как и жалели, молока приносили, яиц, борошны подкидывали, а когда и бурсака кус, но и побаивались – Бог его знает, кто такая.
Ивановна-то всем растрезвонила, что пришлая девка, не иначе, как колдовка. Вона, все коты у ней во дворе трутся, собаки не трогают, ластятся, звери лесные в гости захаживают.
Супружник Ивановны тот клянется-божится, глаза выпучив, что видал, как дикий кабан из леса рысью прибёг до девкиной хаты, копытом в дверь постукал, молодайка-то ему ковш вина вынесла, а тот давай пить да похрюкивать, а рыло-то довольное. Хоть мужик у Ивановны дюже пьющий да и брехливый, что твой пёс, но ему верили, а как не верить, диковинная тут история, любой скажет.
Имя у чужачки оказалось, невесть какое - Анька.
Никакая она не немая, говорить может, да только не хочет.
«Здарова заревали, доброго вам здоровьица, за ради Божи, до побачення», - вот и весь сказ.
Ходила Анна в лес часто, надолго, иногда с самого заранку и пока солнышко не спрячется. Чего она там робила, про то хуторские не ведали. Брались подглядеть, да не получалось. То сами в трех соснах заблукают, то Анька за дерево ступила, и нема её.
Муж Ивановны, как-то раз за девицей увязался, да в байрак свалился, ногу скалечил. До вечера сидел, горлопанил. Уж сколько раз ему Ивановна говорила, чтобы пьяным по лесу не шлындал.
Но ничего, попривыкли, девка-то безобидная, живет себе и живет.
Как-то ночью, в самом конце лета, тетка Евдокия, маявшаяся бессонницей и без дела ходившая по избе туда-сюда, плач услыхала. Ночь тихая стояла, все звуки далече слыхать. Вроде как поначалу ребятенок где-то закряхтел, а потом как дал петуха! Вышла Евдокия на крыльцо, так и есть - у Аньки во дворе дитё орет. Евдокия платок пуховый на плечи набросила, ноги в галоши сунула и как была в исподнем, к соседке кинулась. Смотрит, а Анна-то по двору ходит, младенца баюкает, а у самой ночная рубашка понизу вся кровью намокла.
«От дурёха-то, от дурёха, сама родила, на помощь никого не позвала, а в соседнем хуторе повитуха живет», - про себя ругала нерадивую мамашу Евдокия.
- Чего не позвала-то? Я бы Кузьминичну скликала бы, и сама тебе пособила б, не один раз бабам хуторским помогала в этом деле. А ну, давай мне дитё, да в хату ступай, я побачу послед-то вышел, али нет. Кого хоть родила? Парня? Девку?
Дочку Анна назвала Ариной.
Девчоночка росла быстро, за мамкой хвостом бегала, но и хуторских не чуралась, общительная была, разговорчивая, любопытная. Не в мать пошла.
Больше всего с Анной тетка Евдокия зналась и за Анну перед любительницами языки чесать заступалась.
-И чего к девке привязались? Живет, никого не трогает, - бывало, пеняла она хуторским.
-Ой, Дуня, а ты, поди, её и не боишься вовсе, - подначивали словоохотливые кумушки. – То-то в гости к ведьме захаживаешь. Мужика-то у тебя нет, нема кого уводить. А у нас супружники законные! Того и гляди Анька к рукам ведьмачьим приберет.
-Да ну вас, пустомели, - отмахивалась грузная Евдокия и как утка вразвалку ковыляла в избу. Что с них, с дурёх, возьмёшь.
К соседке ходить не переставала. Молочко для Аришки приносила и сметанку жирную, вкусную.
И Анна привечала тетку Евдокию. В дом приглашала, чаем на травах поила, медом и драниками угощала. Мазь для поясницы дала, ох и хорошая мазь, все боли мигом прошли.
Как-то постучалась Евдокия к соседке вся в слезах:
-Ой, Аннушка, беда! Буренка моя захворала, да сильно так! Ой, беда, беда! Не ест, не пьет, а смотрит жалобно-то! Что ж делать-то? Ой, беда. Помрет же, как же я без неё? С голодухи ж и я помру. Анют, может травка, какая есть у тебя?
Вылечила Анна Буренку.
И с тех пор, чуть кто занемог, или неурожай случился, или скотину кто сглазит – все к Анне шли. Она никому не отказывала, всем помогала. Хуторские благодарили, подношения несли, кто чем богат, улыбались и кланялись, а за глаза звали Анну кто знахаркой, кто ворожкой, а иные и ведьмой кликали.
Потом-то разобрались, что никакая она не колдунья, а как есть целительница, зла черного никому не творит, врачует справно, но на каждый роток не накинешь платок, так что по уголкам шепоток шёл, что басорка то собакой, то свиньей, то кошкой, а то и вовсе колесом ночами полнолунными оборачивается, и по хутору шмыгает, в окна заглядывает, да подклады в чужих дворах прячет.
Аринке тоже доставалось. Бывало, встретятся поутру бабы у колодца, а какая-нибудь досужая кумушка обязательно спросит:
- А шо, Анна, правду люди гутарят, что у дочири табейнай хвост е?
Анна глянет на языкатую, точно ледяной водой из ушата окатит и молвит сурово:
- Тю на тэбэ, Парашка, ты за сыной своим Савкой бачь лучше. За маёвай Аринкой бачить не треба, сама управлюсь.
Заступалась Анна за дочь, но с первого дня видела, что растет девчонка особенной, на других малят не похожая.
Говорить начала рано, в травах не хуже матери разбиралась, животных очень любила. Но разные они были, будто и не родные вовсе.
Сама-то Анна белокурая, кожа у ней, как алебастр, глаза, что твои озера синие, тоненькая, высокая. А дочь, по всему видно, в батьку пошла. Глаза чуть раскосые, цвета пережженного сахара, темно-коричневые, но прозрачные. Заглянешь в такие, и будто кто в омут тебя тащит. Волосы черные, густые. Брови соболиные. Кожа как топленое молоко: нежная, кремовая. Переносица тонкая, а нос аккуратной пуговкой. Скулы высокие, щечки розовые. Губы яркие, будто малиной перепачканы. Справна дивчина!
Евдокия, чай, не единожды пыталась выведать, кто у девчушки тятька-то, но Анна точно воды в рот набрала.
Сколько времени прошло, о том история умалчивает, но случай один прогремел по всем хуторам и станицам окрестным.
Как-то в полдень, когда разомлевший на солнце Митька-Костыль, чья хата была крайней от шляха, сидел на крыльце и пил холодный узвар, на казачий хутор налетели чужеземцы. Как с небес рухнули! Сей миг не было никого и вот уже перед Митькими очами сразу трое гарцуют.
Митька их как увидал, сразу про Чингисхана вспомнил. Дед у Митьки в молодости служил у помещика, нахватался всяких знаний по вершкам. Он Митьке про Чингисхана и сказывал.
Но эти точно не чингисхановцы были – те-то давно померли. Уж и дед-то Митькин давно помер.
Трое мужчин, одетые в разукрашенные кожей и кусочками меха парки, высокие капоры из меха лисы и песца, теплые унты из блестящего короткого меха, восседали на могучих оленях и смотрелись посреди летнего казачьего хутора также несуразно, как рог у тетки Евдокии, кабы он, вдруг, вырос у ней.
Митька опешил и даже узвар на себя пролил.
«Это ты, Митяй, видать перегрелся», - сказал он сам себе и потер глаза.
Иноземец что-то гортанно крикнул, как ворон прокаркал. Узрев, что Митька по-прежнему сидит с ошарашенным видом, чужак в песцовом капоре махнул товарищам, и они двинулись прямиком к избушке, где жили Анна с дочерью.
Хуторяне высыпали на улицу и, разинув рты, наблюдали за быстро сменяющими друг друга событиями.
Вот иноземцы возле дома знахарки. А у той большущий амбарный замок висит и дверь крест – накрест заколочена, будто и не жил тут никто сто лет.
Вот самый главный в песцовом капоре спрыгнул с оленя и достал из седельной сумки бубен здоровенный и колотушку. Двое других быстро костер прямо во дворе развели, весь огород Анне истоптали. Главный начал в бубен бить, прыгать, как юродивый и что-то выкрикивать на непонятном языке.
Двое иноверцев принялись раскачиваться и издавать горлом длинные тягучие звуки, от которых прям мурашки по коже. Вот, тот, что с бубном, на землю повалился, лежит, как мертвый. Огонь в костре взметнулся аж до конька на камышовой крыше и мгновенно погас.
Тут же, как коршун, подлетел с земли главный, все трое вскочили на оленей и ну тикать прочь, как и не было их никогда.
Хуторские жители несколько минут стояли, как зачарованные, не шевелясь. А потом морок сбросили, засудачили, загалдели стали пытать друг друга кто это, да что это.
Муж Ивановны первый на крыльцо к Анне взобрался.
- Ёкли-мокли! Люди добрые, а куды ж Анька-то с малой сгинули?
- Михалыч, а ну слезь с крыльца чужого – строго сказала Евдокия, а сама все смотрела на заколоченную дверь. – И правда, куды Анютка подевалась, я ж утром нонищням её видела, в огороде с Аришкой ковырялись.
Народ зашумел, все заговорили разом, принялись обсуждать чужеземцев, которые невесть откуда взялись и Анну, которая утром была, а таперича исчезла.
Следующим днем Анна, как ни в чем не бывало, приводила огород в порядок, мела двор, а маленькая Аришка помогала ей.
Хуторские жители теперь ещё больше Анну боялись, да и дочери её сторонились, крестились при встрече с ними.
Евдокия, хоть университетов и не кончала, но была далеко не дура. Два и два сложить запросто могла. Немного покумекав, она напекла пирогов и пошла к соседке.
- Мир вашему дому, Аннушка.
- Заходите, тетя Дуня! День добрый. Чайку выпьете? Я как раз воды закипятила.
- Отчего ж не выпить, выпью. Вот и угощеньице к чаю принесла.
Через пять минут Евдокия сидела за грубо сколоченным столом, покрытым вышитой вручную скатертью, и чопорно оттопырив мизинец, держала пузатую кружку с чаем в одной руке, а кусок сладкого пирога в другой. Шумно отхлебнув, она выжидающе посмотрела на хозяйку.
-Ты, милочка, ничего не хочешь мне казати?
- А что рассказывать?
-Ой, хитра лиса, ой хитра. Когда дверь-то заколотить успела? И доню спрятала. Знала, что ль, что по твою душу приедут?
Анна присела на некрашеный табурет, сложила красивые руки на коленях, сгорбилась и сразу стала похожа на старушку.
-Вот то-то и оно, что по душу, - еле слышно сказала она.- Только не по мою, а по Аришкину.
- Никак, то батька Аришкин был?- от любопытства Евдокия аж привстала и чуть пирог не уронила.
Анна покачала головой: «Он самый».
-Ой, девка…. И как же тебя угораздило–то? Они-то, мужики эти, не из наших краев. И лица у них ненашенские, глаза узкие, пипки пуговками. Басурмане, сразу видать, басурмане.
-Теть Дунь. Не басурмане они. Эвенки.
-Эвенки? Это кто ж такие?
-Народ такой, тунгусы, по-вашему. Живут в холодных краях.
Евдокия немного помолчала.
-Ну, я и говорю, басурмане, значит. А ты-то как туда попала? Или они как сюда попали? Далеко же.
Анна долгим оценивающим взглядом посмотрела на Евдокию и решилась.
- Ну, слухайте, тётка Евдокия, про мою жизню.