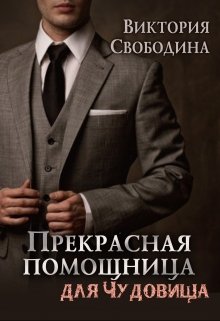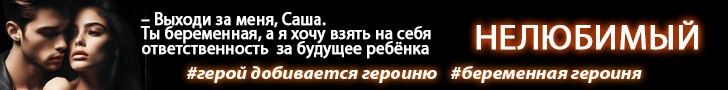Живое железо
Живое железо
Году в 1880 Ковалёв Петруха рванул на Запад, в его непроглядную пустоту, которая теперь открылась богатыми недрами.
Петрухе всегда верилось, что вскрой человек плоть Земли, как засияют её крепкие рёбра сокровищами: солью, углём, железом и даже невиданным каменьем. Не могла степь молчать попусту, а безмолвствовала она по величию тайны, которую хранила под собою. Ибо, хотя и была она словно мертва, а как глянешь - живая. И поди ж пойми это…
Петруха ушёл в Екатеринослав.
Дорога, какая легла ему под ноги, шла сперва на Бахмут. Но и туда Петруха добраться не успел - уже в Юзовке он жадно вцепился в железо, вынутое из-под земной кожи – степной металл, свойский!
Так Пётр Ковалёв, потомственный кузнец, подрядился помощником в артель до осени, все лето своим внутренним взором глядючи на Екатеринослав.
Да так и отзимовал здесь. К весне уже не видел дальше Бахмута – самому не верилось, что можно двинуться еще дальше и не сорваться жадно, не приникнуть душой к шахтным прорвам в промышленных поселках по пути.
Поселился Петруха в артельном бараке - врытой в землю мазанке с соломенной крышей. И хотя душно и парко зимовалось ему промеж прочего люда, а неудобности Петруха жилищу этому не вменял в тяготу. Ибо стоял здесь дух кузнечной гари, окалины, угля и тяжёлой работы. И всякий разговор здесь заводился только про железо, про руды и металлы, про огонь и земные недра, взломанные человеком.
Но Петруха помышлял и о большем того. Мысли о живом и неживом не отступались от него, хотя и не помещались в его твёрдой голове, ибо голова под них не умела поменяться, а мысли те не могли сами уложиться в аккурат. Например, не понималось ему, каким приладом, питаясь от неживой земли, человек прирастает плотью, которая жива? И отчего помирая, он оборачивается и истлевает в землю, которая не жива?
Такою думкою пришел он к жажде выковать из неживого железа нечто живое, что было бы человекам в чудо и в радость. Ведь и пар человеку был на службу поставлен, и про воздушные полеты слышал народ многое. Наступил век чудес.
Владелец артели, старик Потомин Петруху скоро приметил, присмотрелся издали и приставил к своей наковальне молотчиком.
Потомин происходил из староверов, выветренных новым веком. Люди оные крепки были во всём, до старины охочие, но и новое в оборот брали враз, если видели в том прок.
Потому и Петруху притянул к себе Потомин. А тот и сам не знал, почему так уж вплоть: и в дом позвал, и за стол усадил десную.
Просек зоркий старик своим хитрецким прищуром то, что ему в дело само собою вростало. Ибо, разумея великие тайны Земли, которые ворошили в Петрухе самый его дух мыслительный, виделась ему не только степь с её исподней, но и Потоминская дочь Ефимия, которая вхожая была в кузню, чего не любил от баб Потомин. От всех, кроме Ефимки. Так уж она была влита в это железное дело от самых детских пор.
Тем и будоражила она ум Петров, что тайной соединялась в ней девичья тонкость с невесть откуда рвущейся жильной крепостью.
Осенью до Покрова уже и сыграл им Потомин свадьбу. А на вздох, какой вырвался из груди Петрухиной, ответил мудрёно:
– Не вздыхай про дальнее: куды не пойди, везде Земля жива и люди добры. Везде оно - как здесь. А ты гляди не в далёко, а в глубоко. Где врос, там корнями и доставай до правды, а верхушкою до Бога. И тем будешь крепок, как словно Божий дуб.
Не все Петруха понял. Но про Землю он и сам не раз крутил думки в голове. Вгрызаться, запускаться в ее плоть корнями, кротами, вырывать из нее сталь и постигать великие тайны природные - это было его мечтой.
И он бил железо, высекая искры и окалину, и глядел на горячую, взмокшую Ефимку, какая и к вечеру горнить не уставала, а трудилась честно, со всею силой, уж какая у девки ни есть.
К другому году к радости Потомина Ефимия обременилась и к сроку, не отставая от горна, прямо посерёд кузни родила Петрухе человека.
Потомин внука глянул, на руке взвесил - крепок, однако. «Как словно Божий дуб!» Остался доволен и по святцам нарёк Андреем.
А Петруха тем рожденьем аж перевернулся духом внутри себя самого: когда сынка увидал, по-первой даже не поверил сам себе в думках, внутри души. Как такое может статься, чтобы он, Пётр Ковалев, как бы вновь из Земли изшел и сам собою при жизни вновь плотию облёкся? А никак! Ибо не он это, а его продолжение, его корни в земле, то есть - сын его. Но разве древесное коренье и семя не то же, что само дерево?
И то простое, что всякому принимается обычностью, Петру далось не сразу, но зато с восторгом, как великое торжество Земли, рождающей живое.
От сего чудного понимания он даже вышел до солнца за кузню, за барак, поднялся на холмину и оглядел немую, дремлющую степь. Вот о какой великой тайне молчала она!
Потомин же, упокоенный рождением внука, вскоре помер. Заложив сырой металл, он вышел к воздуху, присел на скамейку дух перевести, но подняться уже не смог, а сказал только:
– Там, смотри, железо у меня, – потом поклонился вроде ко сну, но тут же очнулся, охнул и поменялся в голосе с простого на какой-то нездешний, «оттудашний»: – Кажись, я своё выковал. Ты смотри… Железо, оно не живое. Оно для живого…
И помер, выдохнув душу в воздух.
Схоронили его на кладбище со стороны молитвенного дома, который покуда заменял церковь. Здесь улегся он в степную землю, чтобы вернуть взятое плотию от плоти, ибо «земля ты и в землю отыдеши».
Ефимия к церковке той потянулась, ибо покою без батьки видеть не умела.
Теперь до кузни она не докасалась, все больше молилась, заботясь об исшедшем отечнем духе, или сиживала с сынком, разогнав теток и нянек и выглядывая в дитяти отцовские черты.
Наконец, кое-как Пётр ее восставил, когда посадил над могилою дубок:
– Не печалься миру, он премудро сложён, – объяснял он жене то, на чем сам стоял. – Душу Бог отнимает в лучшее. А телесный состав человеческий землёй потребляется. И всяк человек разбирается на вещество. И дубок тот корнями дойдет до останка, потребит его и в дерево преобразит. И не прахом батька выйдет от нас, а духом к Богу, телом же в новую жизнь в новом веществе.
Ефимия слушала молча, не кивала, не глядела. Может, и не понимала. Но от той поры мало-помалу снова вошла в свою обычность. Даже захаживала и в кузню - душу отвести, хотя Пётр и не понуждал её к железу. Уважал он в ней материнство и берёг её потому, как чудо рождения он видел даже большим, чем молчание степной пустоты, имеющей во чреве, но не могущей родить оттудова живое.
Потому и мысли о неживом железе не покидали Петрухину голову. Он всматривался в гнутье, выбивал лепестками прут, глядел, крутил в руках да и выбрасывал сделанное в короб с повторным железом.
Потом подолгу наблюдал за виноградными лозами, ибо всякий человеческий узор берётся от растения, его повторяет и запечатлевает.
К Потомину нередко он захаживал, молча глядел на дубок и думал о степи, с которою человек срастается в родство. Оттого и зовётся она природою, что через общее вещество, какое повторно перековывается из людей в травы, одного она рода со всем живым и неживым.
А город рос на глазах, расцветая и вширь, и ввысь. И когда построили новую церковь в Юзовке, и камень с железом слились воедино, преобразившись в храм и став живым чем-то, народ радовался и дивился красоте человеческой работы.
Пётр подолгу стоял, задрав голову, и смотрел на ровный купол той Преображенской церкви, на крест, на куб церковного тела. Все казалось ему не настоящим, ибо не привык он видеть такой высоты.
Вскоре Ефимия родила мужу ещё сына, которого тот принял с благодарностью и уже без удивления. Окрестили его в Преображенской церкви Савелием.
Теперь не дивился он ни недру земному, ни живому, сложенному с неживым. А думал, что всё оно одно к другому прилажено мудро и неразделимо. И степная кожа эта, черная плоть предыдущих поколений трав, дерев, скотов и человеков. И земное споднее, налитое солью, углем и железом. И храм, который из всего этого выстроен. И людские души в нём. И всё тянется к небу, к Богу, всё едино и разумению суетному непостижимо, как воздух. Ибо то и есть правда во всём её природном виде, и словами её не изъяснить, а только можно знать чем-то другим, кроме головы.
И Пётр вдался в своё «живое железо», сплетая и связывая из прута замысловатые завитки с вывихами и глазками, то протягивая, то скручивая железо, а то и осаживая, чтобы раздался прут в ширину листка. И подолгу высматривал он в травах и лозах их природную правду, стараясь не думать в тот час, чтобы глубже красота входила в душу и не засорялась умом.
Вскоре наладился и сбыт, тут Петруха у Потомина научился купеческой хватке. И его труды пошли на Бахмут, на Таганрог и на Старочеркасск.
Но, когда хвалили его работу, Пётр только глядел молча из-под широкого лба, а то и вовсе уходил к делу. Не того он жаждал, и не к тому рвалось его нутро, чтобы кто поумилялся на мертвое железо.
Жил и рос вширь и ввысь Преображенский храм. Вскоре пристроилась к нему высоченная колокольня, с боков подступили еще два придела, сверху добавились четыре купола и нужные помещения на всякую потребу пристали по краям тела. Обживался город, шагая в новое и отдавая степи старое. И Петруха любовался церковным великолепием и соединению в нем всего со всем. Да и сам желал к делу приложиться, подумывал только, с какого боку.
Артель его трудилась, Ефимия горнила, радуясь работе, а Петруха ей.
И уже в Екатеринослав пошли его ветви и лозы, и в Воронеж, и в Киев и даже в Петербург на выставки.
Но Пётр не унимался, не то он видел в конце пути. Не живое оно ещё.
Наконец, дошел он и для родной церкви навертеть железных лоз с виноградами. И тут уж Петро сам вывернулся, как прут, ибо желал поспеть с ковкой к престольному дню, к Преображению Господню. Дней оставалось немного, и работал он во все время, кроме краткого сна. При нем и семейные его - Ефимия и двое сыновей, подростки уже.
И так дней сорок изнашивались они работою до истощения, всю свою природную мочь полагая к делу. Когда же закончили, кислотою прокалили для черни, во дворе расставили и залюбовались «живым железом», то послабились, будто сняли какой оков с их души, и телом, и духом обмякли с устатку.
Ефимка счастливая сидит, не налюбуется гнутьем и мужем, а ребята сонные, до того усталые, что стоя поставь - упадут.
И тут задумался Петруха, вгляделся:
– А может нам ещё здесь… – встал он на ноги, чтоб лучше к завиткам присмотреться, а Ефимия с ребятами тут же к железу, как часовые солдаты, стоят, шатаются, но к любому делу готовые. Сами закопчены до чёрного, измождённые и давно уже без сил телесных. Но упрямые глаза их горят расплавом, и дух в них такой, что железу того не перенести - лопнет. А они стоят, смотрят молча. Давай ещё, мол, сделаем, пока живые ещё!
Улыбнулся он, глянул исподлобья:
– Да нет, пожалуй-то оно и хорошо будет.
На том и порешил.
Работу в церковь свёз, там народ Божий по делу всё примастерил, куда следует. И любовался всякий, глядючи на «живое», да Петра похваливал. А он только отмахивался и отшучивался. Знал теперь большую тайну о «живом железе», какую никто и не прячет, да не всякий видит.
– Ну что, нашёл ты свое «живое железо»? – спросила его Ефимка, на отцовской скамье у кузни сидючи.
Он глянул на неё, обнял крепко, по-кузнецки, и ответил:
– Нашёл. Но не в степи. И не на дне её, – он оглядел двор, соседние артели, Трубы Новороссийского завода и видную отсюда часовню Преображенского собора. – Люди Божии - вот «живое железо» где. Там, где лопается сталь и металл гудит, или где степь стонет, когда не в силах стерпеть, там только человеку Божьему под силу выжить и дело завершить. Чего б оно не стоило.
Ефимия выслушала молча, может, не поняла. А из кузни зазвенел молот.
– А ребяты ищут еще твое «живое железо».
– Пусть ищут, – улыбнулся Пётр. – Правда от глаз не прячется. Но сыскать её каждый сам должен, чужими глазами её не разглядеть.
Знал он теперь великую тайну, как неживое соединяется с живым и земное с Божьим.
Поднимался новый день, зазвенели молоты и в других артелях, загудел завод, с грохотом и трудом рос большой и светлый город. И ничто его не могло остановить, потому как текла по его жилам степная соль - пот, слёзы и кровь человека, «живого железа» степного. Такой уж здесь народ. «Как словно дуб Божий».